
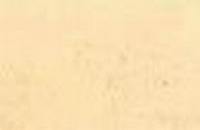



|
 |
|
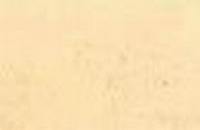 |
|
 |
|
|
НА ВИДУ ©
И.И. Вегеря
Старухе было под восемьдесят, и на своем веку ей немало довелось поколесить поездами. Два десятка лет она прожила на станции, старший из ее сыновей до пенсии работал машинистом - но за все эти годы так и не пересилила необъяснимой и для многих ее близких неприязни к купейным отсекам. Конечно, соглашалась она на словах с дочерью - своей младшенькой, у которой последней выхаживала внуков, а теперь доживала отпущенные богом дни, - ехать в купе спокойнее, и нет нужды жаться к сумкам и ощупывать утайку с деньгами, во всяком курильщике или посетителе ресторана подозревая урку. Но внучке, которая должна была зайти после работы в железнодорожные кассы, наказывала: бери плацкартный. Внучка еще школьницей ездила с бабушкой в деревню навещать ее сестер, к которым старуха собиралась теперь, быть может, в последний раз, - и потому знала: не те уж старухины годы, чтобы мыкаться без места. Но и в купе, попадись в компании из трех вагонных попутчиков хоть один, не вполне внушающий доверия, поездка превратилась бы для старухи в еще большую пытку: за всю дорогу могла она не проглотить и куска, не кашлянуть, не чихнуть. И хотела бы, может, отвесть глаза - да некуда... В плацкартном и поговорить, и на судьбу свою поплакаться куда "способнее": кругом возня, шум - а вы двое (тихонечко) друг против дружки. И одни, и вот же - среди людей. Да и то сказать - вся долгая жизнь старухи прошла на виду, будто ехала издалека в стареньком общем вагоне, где каждому видно, что ты ешь, что пьешь, какие у тебя дети - но и от твоих глаз ничто не скрыто. И хотя выпало на ее веку немало плохого, и люди тоже встречались разные - всегда тянулась она к народу, в многолюдство. Глядишь, и хороший человек попадется - хороших-то, считала старуха, больше. Гордилась своим умением ладить даже о малознакомыми, "Как-то вот подходила я к людям, - повторяла частенько, - легче и переживать было". Тому же учила и детей, и внуков своих: - Самое главное, будь полюдимей: и к тебе подойдут, и ты подойдешь к любому. Из детей совету ее вняли лишь старшие. О внуках и говорить не приходилось. Конечно, старуха видела; жизнь пошла другая. Но разве выдюжила бы в одиночку она, без мужа, с четырьмя сиротами на руках? И приворовывать приходилось, и за продуктами ездила с товарками. Была у нее и знакомая жена завмага, давала иногда перепродавать вещи. Если оказывалось что-то необходимое самой: детская одежда, постельное белье – оставляла себе, но деньги отдавала полностью, как за сбытое на сторону. Не старалась выгадать на знакомстве лишнего - радовалась и тому, что могла одевать-обувать детей. Дружила с комендантшей железнодорожного общежития. Случалось, та приносила мыло, давала два-три куска ей: - Это тебе, тетя Наташа, за работу. А остальное продашь. Кусок мыла стоил двести рублей - плата выходила не меньше месячного заработка. Впрочем, к комендантше мыло поступало в ящиках, на куски резала его сама - имела солидный приварок. «Но и не так, чтобы трусилась, - вспоминала старуха. - Жена завмага - та жадная была. А эта нет». Знакомые были и в швейной мастерской, куда позже пристраивала старшую дочь, и среди татарок, что жили в поселке. У них покупала ворованные мешки, из которых шила потом простыни. Выручала других - и ее выручали. Домик, в каком жила, был небольшой, но все же выгораживала углы для квартирантов, пускала не из-за денег - чтобы был пригляд за детьми. Работала ведь по сменам: в шахте, на станции - дети боялись ночевать одни. Уезжала за продуктами - тоже оставляла на жильцов, на соседей. А обернуться удавалось не всегда быстро, как думала. Бывало, рассчитывала на день - возвращалась через неделю. Внучке рассказывала: ехали за яблоками. Недалеко. Уже ждали обратного поезда. Садились у водокачки. Паровоз давал гудок к отходу. На ходу вбрасывали мешки, вскакивали сами. Но то ли неправильно поняли сигнал - поезд не трогался. Появился какой-то человек в форме. Всех, кто уже сел - их набралось человек шесть - сняли. Больше поездов не было. С мешками потащились назад на станцию. Сидели ночь, другую, женщины, которым было поближе, уехали. Они оставались вдвоем. Наконец, кто-то подсказал: да чего вы ждете - бегите вон к тому поезду. Видно, они перепутали - уехали в другую сторону. Но мешков не бросала. Возвратилась - дети ревут, соседки ахают: «И не думали, что увидим тебя еще. Уж и гадать об тебе ходили». Воспоминанья, конечно, оканчивались слезами. Наплакавшись вволю, и вытирая глаза кончиками покрытого на голове платка или полою кофты, старуха вздыхала: - Хорошего в моей жизни - вспомнить нечего. Одни пережитки. Времена - известно, какие были. И сбрасывали из вагонов на ходу, и грабили, и убивали. Но ей везло - всякий раз смерть почему-то отступалась. И порою, уже с сухими глазами, задумавшись - внучка видела: старуха итожит что-то в своем прошлом - вдруг выговаривала иное: - Да, жизнь моя прошла - как сказка... Конечно, осталась жива, выходила четверых - одна, без мужика... Но ведь было и что-то другое - светлое? - допытывалась внучка. Она не могла не верить рассказам старухи. Она видела ее слезы. Она любила ее. Но разве не гадко, в самом деле, воровать, мешочничать - думала в то же время. Она стыдилась старухиного прошлого, не проговариваясь даже самым близким школьным подругам. И потихоньку вылепливала в себе другой образ старухи. И старуха улыбалась в ответ. Кажется, она догадывалась, чего от нее хотят. Светлое... Оно начинало просвечивать изнутри. Морщины на лице старухи разглаживались. - Да... - начинала она. Но внучка уже знала - не то. И досадовала, что в памяти старухи жизнь осталась именно такой. Улыбка ничего не меняла - просто старуха всегда улыбалась при воспоминании об этом. Не то... - В поселке еще ни у кого и из мужиков-то не было радио, а мне комендантша покойница, царствие ей небесное, уже дала... Светлыми и безоблачными запомнились старухе только самые первые ее годы - еще были живы отец и мать... Девчонкой выбегала босиком в заснеженный сад трясти яблони - чтобы лучше родили. Колядовала. "Открывай сундучок - доставай пятачок", - со смехом выкрикивала под окнами особо прижимистых хозяев. Конечно, гадала вместе с подругами. На дворе у дяди Пермена, большого любителя до таких забав, ловили овец. И однажды выпало: имя ее мужа будет Пашка. А Пашка в селе жил один - не такой старый, чтобы не выйти за него замуж, но пьянюшка, какого больше не сыскать. Подруги смеялись, смеялась и сама. - Гляди, Наташка, всюю жизнь промаешься... Да ну, думала, откуда и взяться печали? Семья жила, хоть и не богато, но в достатке. Три мужика было в доме - отец да старшие братья Митя и Митроша. Всегда находилось, что поесть, что надеть-обуть. Правда, работали от зари до зари, но ее, самой меньшей в семье, это еще не очень и касалось. Мать жалела ее, частенько покрывала детские грешки. Вообще была добрая. Об отце помнила меньше – что невысок и коренаст, умел и охоч до работы, скор на руку, хотя справедлив. Случалось, и ее протягивали вожжами вдоль спины. Но не это, а вот что выплывало из памяти до глубокой старости - ярмарка на Ильин день. С музыкой и каруселями. И люди, живые люди - как вот они могли? - ходили по воздуху. - По канату, наверное, бабушка? - Нет, это теперь в телевизирах ваших... - Старуха улыбалась внучке, как все еще несмышленому дитяти. Мол, я-то помню. - По воздуху. Правда, и в домашний, справедливый и добрый мирок, врывалась порой с улицы какая-нибудь будоражащая весть: сказывают, опять Дарья Евсеевна вора поймала. А вор-то - вдова из их деревни, в одиночку растила шестерых мальцов. Работала на спиртозаводе, пекла хлеб для рабочих - по ночам накладывала тесто в ведро и несла домой. Дарья Евсеевна, барская экономка, выслеживала ее, приводила к барину. Но тот всякий раз отпускал женщину с миром. «То, что она ворует - это ее слезы», - говорил несколько туманно. А сама вдова и после революции все вздыхала: «Ах, нашего барина и трогать бы не надо». Добрый был потому что... За работу платил хорошо, не наказывал. Был врач - лечил больных. Так слышала когда-то сама, а теперь пересказывала внучке старуха. И я, добавляла, девчонкой была, а помню - только кто крикнет: "Девки, барин едет". А мы уж и рады – становимся вдоль дороги. «Здравствуйте» , - поклонимся. Знаем: сейчас обсыпает барин всю дорогу конфетами. Но свергли царя. 0т брага Мити с шахт Донбасса пришел товарищ, радостно подбрасывал к потолку шапку: "Теперь мы сами будем хозяева! Теперь мы сами!.." Старуха через множество лет снисходительно посмеивалась над ним: «Дурак... Вот теперь и хозяева. Кто магазине - тот над тобой и хозяин». Но тогда радовалась вместе со всеми - может, по-иному, чем взрослые, может, тому, как выкрикивал нараспев слова братов товарищ: - Вот никто не знает, что у меня в шапке. Вот никто не знает… - Чего же не знать? - угадывала старуха сквозь годы и это. - Деньги у него там были. А внучке хотелось, чтобы - непременно листовки... Перестал выезжать из дому барин. А по самой деревне ходили уже двое молодцов - Кулешов и Кутайцев, грозились выпустить из хозяина голубую его кровь. Об одном из них старуха говорила: «Вся природа их была какая-то, как живодерская - Кулешовы, Кулешовы...» По ночам стучались в барский дом, и барин не выставлял незваных гостей, а сам угощал, улещивал недавних своих работников. Но зря уже, зря... Кто-то принес с завода весть - и, как гром, раскатилось по всей деревне: «Завтра громить барина». С самого утра собрались на барском подворье, а там, то ли чуя беду, то ли просто не кормленная, на разные голоса мычала, ржала, блеяла уж скотина. Поначалу стояли смирно, будто ожидая какого-то представления. А когда поняли - никто и не собирается им мешать, начали тащить что кому вздумается. В дом решились войти только двое - Кулешов и Кутайцев. Но и тут смелости их достало лишь на то, чтобы вырвать из рук хозяйки узел - словно до сих пор не чувствовали они собственной правоты. Вышел из дому барин, перекрестился на четыре стороны. «Ну, до свидания», - сказал. Кучер хлестнул лошадей, они понесли - все быстрее, быстрее. Народ окончательно осмелел, вспоминала старуха, и даже она - ну, девчонка была - заскочила в дом и набрала полный подол пузырьков. Лекарства потом выливала - пузырьки заменяли игрушки. Поговаривали, что барин скрывался в Задонске. Когда стало чуть посвободнее, открыл там врачебную практику. Но прожил не долго: в одну из ночей в дом полезли, видно, за деньгами - самого барина зарезали в постели. Его жену, которая бросилась бежать, настигли у дверей. «Ну, видно, так тому и быть», - говорила старуха. Как с чем-то неизбежным, смирилась она и со смертью родителей. Девяти лет оставалась круглой сиротой - все то счастье, что могла бы цедить годами, уже выплеснули в ее жизнь без остатка. Случалось, она говорила: вот дал бы господь папаше ну еще годков пять - все же подросли б, стали на ноги... Но - судьба есть судьба. Она понимала: возможно, отцу назначалась смерть более страшная и мучительная, что и без того откладывалась, пока жизнь не подошла к последнему своему пределу. Старуха рассказывала: горел спиртзавод… Пожар случился в год отъезда барина, на осеннюю ярмарку. Загорелось в четыре часа утра. Подозревали поджег – власть (старуха уж и не помнила – какая) будто хотела разгромить всю деревню. Но, обожженная, опустевшая чуть ни на треть осталась стоять она при дороге в Задонск - при своих домах и своем кладбище, при своем пепле и обезколоколевшей вскоре церкви. Верней было то, что загорелся спирт от окурка, брошенного солдатами - которые и были присланы для охраны, но больше пили сами. Да и приторговывали. Почти в каждых сенях стояла бочка, а то и две, полные спиртом. Тем не менее, всем миром бросились на пожар с пустой посудой. Тушить завод, что стоял у самой реки, оказалось некому. Забеспокоились, говорила старуха, и невестки в их доме – жены Митроши и Мити. Старшей, бездетной Катюхе, свекровь сказала: «Ну, ты мне не дитё, я держать тебя не могу. А ты, Веруха, - повернулась к жене Митрош, - чтоб и не думала. Пойдешь - сей час пущу за тобой детей». Ослушаться она не посмела - но испереживалась вся, глядючи, как возвращаются с полными ведрами соседи. Принесла спирта и Катюха. А пожар все набирал силу - лезли уже по раскаленной железной лестнице. Потом и вовсе пошли по дороге тлеющие живые свечи. Останавливались у колодцев, на них лили воду прямо из ведер - но они все стонали и стонали: «Ох, предайте смерти. Предайте смерти…» В ту осень на кладбище добавилась всего одна общая могила. Рассказывали: какой-то парень сгорел дохла – хоронили кости в обгорелой, чудом уцелевшей рубахе, по которой мать и узнала сына. А потом снился ей и все укорял, что похоронили без штанов. «Что же вы, мама, - повторял во сне, - люди идут гулять, а мне и выйти к ним не в чем…» Из старухиной родни в то утро сгорели дядя и двоюродный племянник. Не утерпели бы, конечно, и папаша с братом Михрошей, но в ту ночь уезжали в Задонск продавать лошадей. И была в Задонске еще одна женщина из деревни - уходила на богомолье. А утром, когда ворочалась, к ней подлетел ворон и ударил крылом. «И что это у меня за беда?» - ахнула женщина. Но только у самой деревни кто-то остановил ее: «И куда же ты, Митриха, идешь? У тебя же и муж, и сын погорели". И это тоже, считала старуха, судьба. От нее не уйдешь, доли своей не минуешь. И если суждено было умереть папаше молодым, смерть его, по крайней мере, оказалась не такой мучительной. Умер он следующим летом от повторного тифа. До этого никогда не болел. Стыдился, что пока валялся в беспамятстве, хлеб на станцию возили бабы. Поэтому, не отойдя еще толком от болезни, поехал с зерном сам. А воротившись к ночи домой, с постели уже не вставал. Мать пережила отца всего на три недели. Но она-то и прежде болела - всегда слаба была здоровьем. Так и думалось, что не жилец… В доме после смерти родителей оставалось их три сестры: две старших - их старуха до последних дней звала, как и в детстве, нянями - Сашуха да Надюха, и она - меньшая. Жила с ними и невестка с тремя своими детьми - вдова брата Михроши, погибшего в один год с родителями в германском плену. Всего шестеро баб и один мужичонка - младший мальчик Петя. С хозяйством управлялись едва-едва. А тут начался еще голод. Доели последнюю редьку из погреба - нужно было где-то искать пропитание. В сторону Донбасса ушла Надюха. Старшая, Сашуха, осталась дома. Меня, говорила старуха, взяли с собой брат Митя и соседский парень Гриша. Он тоже вел свою сестру Оленку. Шли куда-то к Ливнам - говорили, там голода нет. Ребята собирались найти работу, но в начале пришлось и побираться. По дворам ходили девчонки. Народ был не то, чтобы скупой, но лишнего тоже не водилось. Когда случалось разжиться картошкой, доваривать ее терпения не хватало - вытаскивали, обгладывали верхний проварившийся слой и снова бросали в котелок - так и доедали. Работа первым тоже нашлась девчонкам. Звали нянчить детей. Митя уговаривал их остаться - так знал бы, что сестра, по крайности, накормлена и напоена. Но ни в какую не соглашалась Оленка. И подругу настроила так же: мы ведь, случись что, и дороги домой не найдем. Подумали, подумали - дальше пошли вместе. Вскорости, сыскалась работа и для ребят. В одной из деревень подрядились строить дом. Каменщиками до этого быть им не приходилось. Но, видно, получалось у ребят неплохо - хозяева кормили, не гнали. Девчонки тоже брались за всякую работу: пололи просо, стирали, глядели за детьми. Но когда доложили стены до окон, ребята смекнули, что дальше не справятся. Митя выторговал в качестве аванса полпуда ржи, ссыпал в мешок сестре и посадил ее на поезд. Рассказал в подробностях, где сходить, как идти от станции, в какой дом зайти отдохнуть. Сами строители и Оленка собирались уйти из деревни той же ночью. Но сделать все, как велел брат, ей не пришлось. В дороге встретила младшего племянника Федьку, который тоже возвращался с продуктами, добираться решили вместе. Шли к своей деревне, словно по лесу, по ржи, вымахавшей уже в их детский рост. С такой ношей идти было и тяжело, и боязно. Всякий мог, если не убить, то ограбить. Но повстречался им за всю дорогу только один парень из их деревни - верхом на лошади. До дому было уж рукой подать, и он вернулся нарочно, чтобы обрадовать няню Сашуху: «Идут домой Наташка вместе с Федькой. Федька несет что-то в сумочке, а ваша несет порядочно». Вое же им пришлось еще раз заночевать в поле. Няня не находила себе места, считая, что младшенькую ее вместе о Федькой таки убили. Но они воротились на следующий день. Кроме полпуда ржи, вспоминала старуха, принесла она еще шесть картошек. Три отдала вдовой невестке о детьми, три сварила для няни. Та совсем опухла, позеленела ох травы - нужно было ее отхаживать. Смололи рожь, взяли у тетки гущу и напекли лепешек. Няня держала их в обеих руках, давилась хлебом, и приходилось уговаривать ее не спешить. Многие в то лето умирали с новой ржи. Мёрли и раньше - от кутьи - распаренных недоспевших колосков. Не будь принесенная рожь летошней, может, не выжила бы и Сашуха. Но все обошлось. Поднялась и лошадь, всю зиму провисевшая на вешалах - дождалась зеленей, а там пошла и новая трава... Через месяц вернулась Надюха, тоже принесла что-то - так сестры и дотянули до нового хлеба. Много позже, вспоминая пережитое, старуха всякий раз удивлялась, как при таких трудностях сумели дожить они до своих годов. Родители их умерли молодыми, не достигнув и пятидесяти лет - самой же младшей из сестер было теперь под восемьдесят. Впрочем, говорила старуха, весь отпущенный им век, они и не жили, а, можно сказать, мыкали судьбу. Старшая - Сашуха - видела только одним глазом, не ходила из-за того ни на какие гулянки-посиделки, и, хотя вышла замуж, пожила в счастье недолго. Муж умер, оставив о двумя сыновьями на руках. Но и выходив их, не заслужила няня спокойной старости. Старший пил - умер молодым, оставив, как и отец, двоих сирот. Младшему, у которого доживала теперь, досталась горластая, жадная до денег и простых удовольствий жена. Бывал он частенько бит ею. Доставалось и самой няне, которая спешила на выручку сыну. В конце концов, он тоже запил. Няня плакала, жалела сына, а пуще всего боялась, что пьяным разобьется однажды на своем грузовике. У средней, Надюхи, самой бойкой из сестер, тоже не сложилось. Первый муж (говорили, большой начальник) бросил ее, второго выгнала сама за пьянство. Видимо, по своей же бойкости отсидела еще до войны год или два в тюрьме как самогонщица. Единственной отрадой оставалась дочь, жившая в большом городе - впрочем, тоже одинокая. Старухе, считалось, больше, чем сестрам, повезло в замужестве. И в достатке, хоть и не долго, довелось пожить. Но то, что выпало на ее долю позже, с лихвой перевешивало все прежнее счастье. Конечно, не раз вспоминалось ей и то первое гаданье, определившее - быть ей мужем Павлу. Нет-нет, не тому деревенскому пьянушке - замуж она выходила в соседнее село. И казалось: к чему бы тогда и смех подруг – «Гляди, намаешься?» Но ведь как все совпало, удивлялась старуха. И имя, и жизнь. Она надолго задумывалась, как бы перемеривая прошлое: а могло ли быть по-иному? Но вслух выговаривала одно: «Да, да... Так и жила». Впрочем, однажды старуха призналась внучке: ее сватали еще одиннадцати или двенадцати лет. Соседка, которая видела мучения сестер - к тому же, приходилась дальней родственницей - говорила: «Я хоть сейчас взяла бы тебя за своего Мишку. Пока просто пожила бы - будто оба вы мои дети. А года вышли б - и повенчали вас». Уговаривала сестру и няня Сашуха, но та не соглашалась. «Ну, нет, - отвечала. - Во-первых, годов нету - пойду я там, как сестра, жить около них. А во-вторых, я и идти за него не хочу». Через десятилетия она сознавалась: правда, хороший был малый - смирный, безответный. Но ведь на два года ее младше - совсем мальчонка. Как последнее средство, соседка взяла ее тогда с собою гадать. Вроде бы за компанию - гадала-то о себе. Надеялась, конечно, что девочке скажут: твоя судьба, соглашайся – тем самым подтолкнут, как и случалось потом не однажды в ее жизни. Но в тот раз ей нагадали обратное тому, к чему склоняли все вокруг: гляди, выйдешь за этого, за которого хотят тебя взять - рано-рано завдовеешь. И действительно, умер он молодым - лет девятнадцати. Как-то само собой выходило, что иначе старухина жизнь сложиться и не могла. Видно, на роду ее было написано коротать свой век в одиночку. Порою казалось: и все остальное в ее жизни определено. Впрочем, вспоминалось и такое гадание, вопреки которому прожила старуха всю свою долгую жизнь. Гадала цыганка. Остановила прямо на дороге и попросила дать руку. Она не дала - только-только вышла замуж, считала: гадать ей не о чем. Цыганка покачала головой, сказала: «Не будь, молодая, такой гордой. Вот посмотри, мужа твоего посадят, а сама ты повесишься». Она не поверила: муж не был хулиганом иди ворюгой - в тюрьму сажать его вроде бы и не за что. Но когда забрали его в первый раз, призадумалась. Конечно, не о гордости своей - нужно было растить ребятишек. «Да неужели не выдержу, оставлю их сиротами?» - вздыхала, веря и не веря словам цыганки. Всякий раз для себя решала: «Нет, как бы ни было трудно, а одних не брошу...» - Ну, Пашка, я тебе невесту нашел. Сама с ноготок, а в тесто, как вцопится - клещами не отдерешь. Он случайно забрел в дом сестер-сирот с кем-то из родственников, и ухватка, ловкость меньшей так приглянулись ему, что он тут же решил: лучшей жены для сына и не сыскать. Сын принял решение отца спокойно. Против были сожительница сына - но работницу, понятно, никто в расчет не брал - и мать. Ее смущало сиротское происхождение будущей невестки. Тут уж свекору, обыкновенно уступавшему жене, пришлось настоять - сам он тоже вырос без родителей, и не в пример жене, что гнала со двора и нищих, которых в день проходило человек пять, имел к ним сочувствие. Но хотя была невестка работяща, имела к деревенским делам сноровку и всячески старалась угодить свекрови - в одном доме две женщины не ужились. Почти сразу после свадьбы свекор с сыновьями начал строить дом для молодых, и к следующей осени они жили уже своим хозяйством. Отделили их, вспоминала старуха, плохо - в недостроенный дом дали всего двух овец, хотя овцам не знали счета, имели двух коров, телку. Бывая в гостях, свекор долго еще оправдывался перед сыном: - Ты, Пашка, не обижайся. Сам знаешь, какая наша мать на жизню. Особо не обижались. Не до того было. Достраивали дом, обзаводились хозяйством - работали не покладая рук. Все бы ничего - уже родился у них сын - но будто какое проклятие лежало на молодых. Еще в день свадьбы пропали у них кольца - венчались в кольцах свекра и свекрови. Считалось дурной приметой. Ахали, охали. Ждали беды, напасти. Занемог муж. Проболев какое-то время тайком, пошел к матери, та - к бабке, которая, по словам, вылечивала любые недуги. Вернулась с наговоренной водой, сказала сыну, чтобы пила водичку и молодая жена. Она тоже болела, но мужу в том признаться стеснялась, истаивая потихоньку, как свеча. Не оказывалась и сестрам - хотя часто ходила в родную деревню. Там, глядя на ее высохшее тело и бледное лицо, тоже допытывались: - Ай ты болеешь, Наташка? - Хозяйство, ребенок, - старалась скрыть она. - Вышла в какое богатство - мы и в праздник работаем. - Нет, ты болеешь, - не отступала Веруха, вдова брата Митроши. У нее самой, когда была беременна, лопалась кожа на ногах, кровоточили раны. Тоже поначалу таилась, но потом не выдержала и спросила у толстой тетки, что жила по соседству: - Я никогда не была такой сытой. А у тебя, тетя Настя, ноги не лопаются? - Упаси бог, - удивилась соседка. - Что ты и говоришь. Чтоб у живого человека такое было? Это ты болеешь. К бабке, которая помогла Верухе, сестры послали и свою младшую. А бабка уже будто ждала ее прихода - еще о порога сказала: - О…ох… Насилушку дошла. Все-то у тебя косточки, все у тебя тело больное. Ну-да, входи, помогу. Ну, как вот могла она определить, удивлялась старуха. Ведь не знала еще: кто я, зачем... И, вспоминая, сама вдруг на виду у внучки обращалась в ту другую старушонку - впрочем, такую же сухонькую и сморщенную. Взгляд ее светлел, сияя неотраженным светом. Она улыбалась. - Сама бабушка, - говорила, - ну вот толечкая, с ноготок. А глаза - я таких и не видела. Ну, как хрустальные – наскрозь глядят. В первый раз бабка наговорила воду и предупредила, чтобы приходила она снова, хоть ей получшеет, хоть похужеет. Ей стало хуже. Так, что свет белый сделался не мил. К бабке погнал ее муж, которому она обо всем рассказала. Опять наговорила бабка воду, а, провожая, сказала: - А этой водичкой, хоть и скотинка у тебя заболеет, заходи с правого бока и брызгай. Воротившись домой, так и ахнула: - Что это с нашей коровой? - Да вот, - сказал муж, - начал доить, а она бьет меня, и сыплется из нее творог. Сразу же вспомнились слова бабушки. - Ну, ладно, - сказала, - пойдем в дом. Сделали все, как велено, посидели, поговорили немного. Снова взялись доить - болезни как ни бывало. А когда пошла в третий раз, бабушка и сказала: - Если б взяла ты меня сейчас с собой, пришла бы та, которая тебе сделала, в ногах у меня каталась бы, приговаривала: «Солюшка, и зачем ты сюда приехала?» На это, объясняла старуха, она не решилась. Своей лошади не было, а нанимать и везти в другую деревню какую-то бабку побоялась из-за людей - мало ли, что могут сказать. - Ну, ничего, - успокоила ее бабушка. - Ты все равно узнаешь, она все равно придет. Дома опять рассказала все мужу. Вечером он, как всегда, лег в копнах, чтобы отпугивать лошадей, когда станут их гнать в колхоз или из колхоза - дом их стоял прямо у дороги. И среди ночи пришла та вдовая солдатка, с которой жил он еще до женитьбы, - будто бы от отца - спросить, можно ли через их огород, что был за деревней, провезти отцовы копны. Тогда уже начинали кулачить, и рожь свою приходилось свозить к чужим людям. Да разве не пришел бы свекор сам, удивлялась старуха. Да и не стал бы идти спрашивать среди ночи. Жили мы дружно - всегда помогали один другому. Эхо она, солдатка эха - змея, мечтала нас разлучить... С тех пор и остались в старухиной памяти те первые колхозы прибежищем горлопанов и гармонистов – Кулешовых, Кутайцевых. О таких до последних дней своих говорила не иначе, как осуждающе: «Есть и раньше жили легко да весело - выезжают сеять, когда у иных уж взойдет». Сама была из тех, кто работал и в праздники - в колхозах не нуждались. Так и попали под раскулачивание. Забрали корову. Быть может, на том и остановились бы. Но, думала внучка, старуха будто нарочно торопила беду. Начала тайком перетаскивать вещи к сестре в соседнюю деревню. Ночью зарезали теленка. Засоленное мясо сложили в бочку, что стояла в сенях. Хоть это, думали, не достанется чужим. Но через два дня пришли с обыском. Видно, донес кто-то из соседей. Долго ничего не находили. Старуха и доныне гордилась тогдашней своей хитростью: только застучали в двери, она сыпанула на мясо первое, что попало под руки - меру отрубей. Не могли догадаться. «Где же теленок?...» Уже уходили, когда в сенях кто-то случайно толкнул ногой бочку - отруби так и рассыпались по кускам, как было нарезано мясо. Бочку вместе с кой-какой утварью и инструментом погрузили на телегу и увезли. "Ну, что теперь делать?» Муж молчал. Помаялась недолго в разграбленном дому и побежала в сельсовет. Там каким-то начальником работал мужчина из их деревни, помнил ее еще сиротой. Увидав здесь, удивился: - А ты чего сюда пришла? - Да как: чего? - только и выговорила сквозь слезы. - Ясно, - сказал уполномоченный. - Мясо не от вас привезли? Она кивнула. - Скажи мужику, чтобы скрылся. Той же ночью муж ушел к няне Сашухе. Жизнь наступила волчья. У няни долго оставаться было нельзя - на всех собраниях только и говорили: «Кто будет кулаков скрывать, пойдет с ними вместе». Муж нянин, хотя при родственнике и помалкивал, зудел каждый день: «Вот гляди, по родственникам начнут искать - с ними вместе в Сибирь пойдем. Вот гляди...» Оставалось одно - лес. Но и по лесам кулаков стадо, что зверья. Страшно было одному - боялись и друг друга. Собирались вместе по три-четыре человека. По ночам прокрадывались к домам за едой - к рассвету уходили обратно. Остерегались засад. Правда, председателем был хороший знакомый свекора - о некоторых облавах сообщал. Но иногда, говорила старуха, муж появлялся и безо всякого знака - чтобы не оставлять семью голодной. Хлеб, какой оставался еще в доме, прятали в кладке стены, сама достать его не могла. В мужнины приходы старалась напекать, наготавливать побольше. Но и то, чтобы, упаси бог, не нашли, на день закапывала в саду, где-нибудь под кустом смородины. Когда же не удавалось мужу прийти домой две-три ночи кряду, сидели голодные - и дома, и в лесу. «Ребята начали охальничать, - жаловался муж. - Лазят по чужим садам. А я так не могу». Домой стал наведываться чаще, и однажды, едва миновав околицу, попал на засаду. В тот первый раз увезли мужа в Елецкую тюрьму. Спасло его, по словам старухи, то, что сидел вместе с людьми грамотными, бывшими купцами. Как-то само собой вышло, что расспросили о жизни, о том, как попал сюда. Успокоили: «Не бойся, тебя выпустят». Сами написали и заявление - старуха уж и не помнила куда. Тем временем подходила Пасха. Как ни тяжко было на душе, а прибирала она в доме, мыла окна. И когда вдруг влетел воробей и испуганно заметался по дому - сердце забилось часто-часто. «Ну, - решила, - это мне какое-то предвещенъе». Думалось почему-то - хорошее. А через два дня вернулся из Ельца муж - она так и обмерла на пороге. - Как это ты? - Отпустили, - сказал. - Но все равно мне нужно скрываться. Прожил дома два дня, днем выходил на улицу - словом, не берегся, вспоминала старуха. Она засуетилась. - Ты бы ушел, что ли, снова к няне. - Уйду, - согласился. - Еще ночку ночую и уйду. А часу во втором, в самое темное глухое время, в дверь застучали. Она вышла в сени и долго возилась с запором. - Да открывай же ты, - кричали ей с улицы. - Сейчас, сейчас, - хитрила. - Никак чтой-то не открою. Когда поняла, что муж взобрался на чердак, а оттуда спрыгнул в сад, откинула щеколду - но облава заходила уже с другой двери. Так и поймали его в саду, когда полз по канаве. Пустили собак, и когда те, настигнув, начали загрызать, он закричал. И было слышно в доме. Но и тогда, уже из задонской тюрьмы, удалось выбраться мужу невредимым. Судьей работал какой-то дальний родственник, и когда, по забытым уже причинам, суд был отложен, сумел устроить так, что старухиного мужа отпустили на время домой. Она толком и не обрадовалась - сразу засобирала мужа в новую дорогу. - Или тебе в Донбасс уехать к няне Надюхе? А я уж как-нибудь одна здесь с ребятами. - Нет, - ответил он. - И тут с кулацкими документами никуда не сунешься, а об Донбассе и думать нечего. Уехал на станцию Долгоруково. Но и там бывали свои деревенские, могли признать и донести. Скрывались, как умели. Потому и Степан, второй сын, говорила старуха внучке, записан с тридцать четвертого - а родился раньше. Вот думается мне - тридцать третьего года он. А не через долго удалось отмочить няни Сашухины документы, и вместе о троюродным братом Кирсаном, бежавшим из тюрьмы, перебрался муж в Товарково. Работали на шахте. Но покоя все равно не было - кулаков искали повсюду. Конечно, они старались не оказываться, о тюремных своих злоключениях писали - находился под следствием. Это не спасло - забирать их пришли прямо в шахту. Но кто-то из своих предупредил: к клети - выезжать из шахты вместе со всеми - они не пошли. Удалось бежать, скрыться. После этого уже всей семьей -с тремя ребятишками - приехали в Тульскую область, в поселок Казановку. Там, говорила старуха внучке, и родилась у меня твоя мать. Когда мужа забирали в последний раз, ей был год и два месяца. Работал муж в Казановке грузчиком на станции. Работал хорошо, и поначалу казалось, что все складывается удачно: начальником у него был раскулаченный Андрей Захарович, из раскулаченных был и напарник. Три человека - вся бригада. Понятно, о кулаках не забывали и здесь - но почему-то выходило, что все беды сыпались на одну голову. Частенько, заходя в гости, Андрей Захарович говорил: «Что-то, Павел, опять про тебя спрашивают». Но муж только отмахивался. Действительно, в работе его придраться было не к чему, собрания посещал исправно - говорили о нем только хорошее. И будто не понимал, что все это до первого случая. Так и вышло. Под вечер пригнали с соседней станции цистерну о нефтью. Потом уж сообразили, что, остерегшись разгружать из-за неисправности, отправили ее специально - знали, что в Казановке цистерну осматривать не станут. Слесарем числился сам Андрей Захарович, но только получал за то деньги. Днем разгружали спирт (в поселке работал винзавод), бригада была подвыпивши. Заниматься еще и этой неожиданной нефтью не хватило ни сил, ни желания. И хотя муж, говорила старуха, будто чуя что, предупреждал, что надо бы слить нефть завидно, Андрей Захарович рассудил по-своему: - Сольем в четыре утра. А под утро случилась беда. Андрей Захарович полез наверх открывать клапан, двое других остались внизу принимать нефть в железную бочку. Но только клапан открыли, нефть не пошла, как положено, струей, а сразу же сбила с ног старухиного мужа. - Андрей Захарович, - закричал он, - неисправна цистерна. Бросился затыкать отверстие первым попавшимся под руку, скинул с себя ватник. Все без толку. И железнодорожники все, вспоминала старуха, как назло, будто вымерли. С «Двадцать четвертого километра» прибежал путевой обходчик, а на станции, как ни старались муж с Андреем Захаровичем кого-нибудь разбудить, не засветилось ни одного окна. К утру нефтью залило все кюветы. Приехала комиссия, и снова начали допытываться - опять, говорила старуха, все больше про мужа. Зашел Андрей Захарович, предупредил: - Павел, что-то приехал черный ворон. Ты либо скройся. - Да чего я буду скрываться? - удивился он, не чувствуя никакой своей вины. - Нет, - услышал тотчас же. - Ты бери свои документы и иди на восьмую шахту. Там много наших калабинских. Наверное, он и в тот раз внял бы словам жены - но только проговорила она, только затворилась дверь за Андреем Захаровичем, пришли с обыском. Конечно, говорила старуха, думали найти спирт - чтоб хоть к чему придраться. Но и спирта не оказалось в доме. Все же мужа - он был еще в спецовке, недавно пришел с работы - попросили переодеться. - Тебе придется не надолго пойти с нами, - сказали. Муж все понял, поняла и она… Собрался и пошел. Дело было уже к вечеру. В ожидании отправки сидел на станции. Старуха помнила, как прибежала к нему о валенками. - Отнеси назад, - сказал муж. - Да чего им здесь пропадать? - всплеснула руками. – Так хоть ты износишь. Дома, не догадываясь еще о беде, оставались дети. Муж отсылал к ним. Она убегала - не заходя, заглядывала через низенькое окно в барак, и спешила обратно. А когда прибежала в третий раз, мужа уж не было. Остаток жизни его прошел где-то на Соловках. Слал, говорила старуха, оттуда письма. Ни про какие страхи не писал, не пугал ничем - известно, голод был могучий, и только однажды попросил в письме: «Если сможете только, если будет у вас возможность, пришлите мне в конверте мучицы крахмальной». Ну, это, поясняла старуха внучке, чтобы сварить киселю... Теперь не могла уж и сказать, посылала ли она крахмал, был он тогда или нет. Вот про то, как еще о мужем собирала посылку свекру, помнила. Но той своей просьбой, считала старуха, свекор только давал знать о скорой своей смерти - потому что не вернулась назад ни посылка, не было от него больше и вестей. Знаком считала и последнее письмо мужа, пришедшее уже во время войны, где он спрашивал: «Пропишите, далеко ли от нас фронтовая полоса. А то нас всех съактировали и будут куда-то угонять. Может, я попаду в свою местность». Так и не знала: умер муж, нет ли... За упокой не поминала. И только однажды увидела во сне, будто лежит он на чердаке среди пыли и паутины, и она спрашивает: - Что же ты лежишь на потолке в такой грязи? А он и отвечает: - А я уж привык… После этого начали поминать, предали тело земле. Ну, это как положено, объясняла старуха, - чтоб не валялся где попало, а на своем месте. Потом и сниться переехал. И только через двадцать лет, когда младшая дочь вступала в партию, на ее запрос об отце ответили, что умер он там-то и там-то, такого-то числа, такого-то года. На могиле его никто никогда не бывал. А возможно, могилы как таковой не существовало и вовсе. Так сбылось первое страшное пророчество цыганки. Оставалась одна о ребятишками на руках. Да в такое время!.. Не знала, как и удержаться в этой жизни - выкарабкаться самой и вытащить четырех малых сирот. Бралась за самую тяжелую работу - лишь бы платили. Как забрали мужа, сразу работала на его месте грузчиком, рыла кюветы на железной дороге, потом пошла на шахту. Выселили из железнодорожных бараков - нужно было где-то жить. Копала землянку, строила дом. Все сама. Иногда помогал брат мужа Кирсан. Подсказывал, советовал. Увидел как-то: она складывает стену, будто столбики из монеток: кирпичи кладет - один на один. - Они все у тебя в завтрему и завалятся, - усмехнулся. - Ты вперевязку ложи. Подошел, показал, как нужно. Сама таскала и лес с шахты - на дом, на дрова. И однажды чуть не пропала у самого дома из-за этих проклятых досок. Казалось: от шахты до поселка рукой подать, тысячу раз хожено. Но вот не могла отыскать в ночи дороги. Погода была самая что ни на есть воровская - метельная, холодная, темная. Она плутала меж невидимыми огоньками шахты и домами поселка, не решаясь бросить своей ноши. Да и то: пойдут утром на шахту, наткнутся - станут искать вора. И замерзнуть с досками - тоже позор. Наконец догадалась: да это лукавый водит ее. Присела на доски переменить обувку на ногах. Снова пошла. В левом валенке на праву ногу было и вовсе худо. К жилью вышла только к утру, когда по дворам забрехали собаки - но считала, что убереглась от сатаны лишь собственной хитростью да божьей помощью. И так же, как эти доски, пёрла старуха через всю жизнь свой крест. Порою совсем невмоготу становилось, да не допустил господь пропасть, говорила она внучке, пожалел, видно, сирот. «Но бога ведь нет, бабушка», - пробовала иногда возразить девочка. Старуха только усмехалась: а ты и не говори, что он есть - а как будет трудно, вспомяни и помолись тихонько. Все под богом ходим... Еще учила внучку гадать. Неумело раскидывала карты, подолгу вглядывалась в них. Знала в основном: шестерки да туз виней – «дороги» и «удар» - то, что было ее собственной судьбой. Теперь гадала о детях - через многие километры или близкое молчание хотела проведать об их судьбе. Но иногда спрашивала и внучку: не погадать ли? На какого короля? На червонного? Девочка конфузилась. Но делилась с бабушкой и кое-какими секретами. Порою они, старая да малая, всерьез обсуждали, какие мальчики лучше: черненькие о усами или светлые и голубоглазые. А позже внучка посылала бабушку уже к настоящим гадалкам. Старуха и сама напрашивалась: не сходить ли? И вдруг приносила весть: выйдешь замуж за того, с кем сейчас встречаешься - и радовалась при том ничуть не меньше невесты. Через время, когда радость входила в берега, внучка догадывалась - да это, наверное, оттого, что в жизни самой бабушки не случалось любви: замуж выходила она от нужды и после мужа оставалась совсем молодой, не было еще и тридцати, высчитывала внучка - вот и греется теперь у чужого счастья. Даже война врезалась в память старухи прежде всего работой. Никого из родных, кто мог воевать, уже не оставалось, немцы простояли в поселке всего неделю - вот и запомнилось: шахта да громадные какие-то займы. «Как насчитают, - вспоминала старуха, - перед тем денег, какие сроду не видывала. Ну, говорят, Ярлыкова, подписывайся. Видишь, по сколько ты получаешь. Придешь домой - а в кармане шиш». Впрочем, начальству не перечила. Хорошо - молчком, плохо - молчком. За то, быть может, и перевели ее из откатчиц в мотористки. И денег побольше, и работа не такая тяжелая: разгребать уголь, следить, чтобы не переполнялся бункер. Где не думала - тут и стерегла ее беда: сунулась в люк с лопатой - и неожиданно поплыла. Оказалось: внизу бункер был пуст, вся масса держалась на мерзлой угольной корке. Ей удалось зацепиться руками и ногами за переметы. Закричала. Прибежали десятник и грузчики. Они уже окончили работу и собирались уходить. - Ты в люку? - спросил испуганный десятник, хотя и без того было ясно. - Как тебя спасать? - Меня спасать, - ответила, - подайте сюда веревку. Если начнете бить, уголь пойдет и меня задавит. Когда десятник вернулся, она уже исхитрилась сбросить с ног валенки - в люке сделалось свободней. По веревке и выбралась наверх. Заплакала. Самой не верилось, что спаслась. «Ведь жива осталась, - удивлялась и через годы. - Как можно было так вылезть, что ни одна углинка не шевельнулась?» Вызволившись, не пошла даже в медпункт. «А», - отмахнулась. Хотя десятник с тоской в глазах спрашивал: «Ну что, будешь идти оформлять травму?» Решила так: раз не дал бог умереть - поможет и выдюжить. Значит, не настал еще срок. Но один из грузчиков рассудил иначе: - Ну, это кто-то из детей у тебя очень счастливый. Пожалуй, это было бы лучшей наградой за все мучения, выпавшие на долю старухи. Но последние тридцать лет она нянчила внуков, пожила у каждого из детей, и потому знала: и ребятам ее бог не дал счастья. У кого-то не ладилось с женой, у кого-то - с мужем. У одного была опасная нервная работа, другой, не одолев пяти классов, как и старуха, всю жизнь трудился на самой грязной и неблагодарной работе. Старуха жалела детей всем сердцем, но ужиться не умела ни с кем. Разругивалась - уходила на квартиру, уезжала в другие города, но возвращалась вновь, если звали, коли выходило, что самим с работой и детьми не управиться. Чудно даже становилось: всю жизнь прожила бок о бок с чужими людьми - и ладила, а свои кровинки, которых выходила, на ноги поставила - матери же и перечат, учат: то не так, этого не надо... Была хозяйкой - стала неизвестно кем: нянькой, домоработницей. Не могла себе простить, что не сохранила собственного угла. Из-за них же - деток: звал к себе старший сын - поехала, продала дом. Теперь сама же и мыкалась, терпела, молчала. И потом ведь, когда дорабатывала до пенсии уборщицей в общежитии (в войну почти все документы старухи сгорели, и не хватало стажа), предлагала ей комендантша дать небольшую комнатенку. Старухина подруга, с которой вместе работала, и теперь жила там. А она-то сама - дура, дура... Доживала в доме младшей дочери - на нее и накопила больше всего обид, ее судьба и сделалась ближе других старухе. У остальных - хорошие, плохие ли, а были мужья, жены. Младшенькая же, как когда-то ее мать, мучилась в одиночку. Старуха видела все: ссоры, примирения развод. Как за себя самое болела за дочь, отыскивала в городе гадалок. А чем могла подсобить она еще? Дочь и отблагодарила ее за заботу, выкрикнув однажды в сердцах; да ты только и делала в жизни, что гадала. Обиду старуха затаила надолго, и часто жаловалась внучке: вот, мать твоя ругает меня, а в моей жизни одно развлечение было - сходить погадать. Внучка спешила утешить старуху. Да и в чем винить бабушку, думала она. Ведь в жизни ее случалось так мало хорошего - разве не имела она права хотя бы на надежду? Но гадала теперь старуха не о себе. Словно стараясь оправдать мученическое свое существование, придать ему смысл, выискивала счастье в будущем детей, а позже - и внуков. Ведь не для одних же страданий родила и выходила она их всех? И улыбаясь, передавала слова гадалок любимой внучке: «А об тебе говорят - самая счастливая ты в нашем роду. И семья твоя будет счастливая. Жить будете долго и дружно. А только не здесь - уедете куда-то к большой воде». И внучка видела уже себя красивой загорелой женщиной на берегу моря. Правда при этом возникало некоторое неудобство, мучившее девушку - как же так: вот она будет счастлива, а старуха? - старуха умрет. Как будто ее собственное счастье образовывалось за счет несчастий других. Но она ведь не виновата. А то, что умрет бабушка... Смерти старуха не боялась. Загодя, много лет назад, ею приготовлен был смертный наряд, который хранился в чемодане под кроватью. Время от времени она перебирала его, рассматривая с интересом - как подвенечное платье, которое еще только предстоит надеть. Всякий раз находила при этом и аккуратно завернутые в платок, металлом блестящие зубы. Им насчитывалось столько же лет, как прочему содержимому чемодана. Когда-то дочь уговаривала старуху вставить зубы - та вынесла все связанные о этим мучения, но носить протезов не стала. Они казались ей неудобными, мешали, потому что были не ее, а привыкать к чужому старуха не могла и уже не хотела. Не понятно, зачем и хранила - так, по привычке. Забывала даже о них - размотав тряпочку платка, удивлялась всякий раз, как ребенок: «Чудно!..» Теперь ее была беззубость, и если и жалела старуха о чем - конечно, не об этих железках, а о нескольких полустертых пеньках, которые так необдуманно (по совету дочери!) позволила выворотить из собственных челюстей. Все эти годы старуха успокаивала себя тем, что уж теперь-то жевать ей осталось не долго... Все подарки – все платья, платки, отрезы материи складывались в чемодан. Внучка не понимала: как можно жить ожиданием смерти? Но тем и отличалась старуха: она не знала, что собственное ее существование обладает еще и какой-то особенной самоценностью. Всю жизнь заботилась о других. Родня, дети, внуки. И вдруг оказалась не у дел. То есть, все еще суетилась по инерции, но уже понимала: не нужна... И, оставшись наедине с собой, старуха растерялась. Чего же хотела для себя? Она стала забывать дни, которые не сменяли уже друг друга, обратившись в однообразную тянучку, «И не дает же господь смерти», - вздыхала старуха. Смерть казалась хоть каким-то исходом. Или старуха надеялась: что-то будет и дальше, потом? Она помнила, как снился женщине из их деревни сын, сгоревший во время пожара на спиртозаводе. «Люди идут гулять, а мне в выйти к ним не в чем». У нее-то найдется в чем, при случае, появиться в саду… Все чаще, словно смёртный наряд, перебирала старуха в памяти обиды. Мать твоя, говорила внучке, только и думает, как избавиться от меня. Мешаю я ей. «Да чем же?» - спрашивала внучка, которая видела слезы и другой стороны: с бабкой совсем стадо не сладить, что ни попросишь - все наоборот, цветы перекопала, какие-то железки, доски складывает под кровать, не слышит - и слушать не хочет, аппарат слуховой - сама просила меня купить - не носит, не удобно ей; да ей без него и лучше - никого не слышать. Но плакала и старуха: «Я и не знаю уж. Все перестираю, перемою в доме. Другая бы в ножки поклонилась, а этой - все не по ней. Ай уж мужика в дом взять хочет? Да рази я ей не даю?» Только при внучке и мирились не надолго старуха с дочерью. Усаживались все вместе перед телевизором. Старуха, дивясь чему-то давно привычному молодым, оттаивала сердцем. «Гляди, гляди, по воздуху идет», - указывала на канатоходца. Дочь, если было у нее хорошее настроение, шутила: «Ты, мама, самая счастливая у нас. Мы-то все знаем. А ты радуешься, как ребенок». – «Да, я счастливая», - отвечала старуха, поджимая губы, и все рушилось вмиг. Дочь глотала таблетки, старуха уходила плакать в свою комнатенку... Ни разу за последние годы она так и не вспомнила слов своей матери, сказанных ей, тогда совсем еще девчонке, в праздник святой Пасхи: «Ну и не плачь...» По прежним старухиным рассказам внучка помнила: Пасха в тот год была грязная и холодная. По случаю праздника ее вырядили в новый «тепломат». Это теперь - "дипломат", поясняла старуха, а тогда "тепломат" - одёжа была такая. Возвращалась от подруги - переходя мостик, поскользнулась и упала в самую грязь. Идти домой, зная крутой нрав родителя, боялась. Но улучила момент, проскользнула украдкой к матери. Та, выслушав рассказ зареванной дочки, сказала: - Ну и ладно, ну и не плачь. Сегодня такой праздник. Сегодня не плачут. Долгие годы, словно не смела ослушаться наказа матери. Хотя не всё праздники - всякое случалось в ее жизни. Но ни разу не слышала внучка ох бабушки: «Сяду одна, когда дети заснут, разревусь...» Теперь… старуха плакала… Бог не давал ей смерти, миновали все сроки. Время перестало помнить о ней. Иногда старуха спрашивала: - А что нынче за день? Чтой-то я забываю. Или: - А что теперь: утро ай вечер? А то вдруг поднималась с постели ближе к ночи,
выходила из комнаты, когда дочь уже задремывала на диване перед телевизором.
Устраивалась поближе к экрану: там, внутри, прямо перед ней, сидел мужчина. Он
что-то говорил, но старуха только глядела на него немигающими глазами. Слуховой
аппарат лежал в соседней комнате, впрочем, еще не упрятанный на дно чемодана.
Мужчину в телевизоре сменяли неизвестно куда бегущие люди, вспышки огня,
искалеченные автомобили. И снова диктор втолковывал что-то старухе. Она качала
головой: «Господи, и что ты мне говоришь - ничего-то я не понимаю...» Она
придвигалась вплотную к его губам, высвобождала из-под платка свое ухо – ее
многолетнее пренебрежение - Вставай, вставай... Поднимайся… - А? Мм?.. - не понимала та спросонья. - Что же ты спишь? Он говорит - а ты отвернулась. Хоть бы уж выключила... - Что? - вдруг трезво спрашивала дочь. И тут же набрасывалась на мать: «Да что же мне от тебя нигде нет покоя?» - Дура ты, дура, - обижалась старуха. - Да он же тебя видит!.. В праздник или воскресный день, когда собирались вместе (внучка приводила уже сынишку), дочь жаловалась ей на старуху. Конечно, старалась перевести это в шутку: - Совсем чудной стала ваша баба. С телевизором разговаривает. Ну, хоть ты ей скажи. Баба! - почти кричала старухе в самое ухо. - Вот, говорю, как ребенок ты малый: думаешь, раз ты на них смотришь, то и тебя из телевизора видят... - А? Да, да, - с готовностью откликалась старуха. Отстраненно улыбалась при этом. Но когда оставалась с внучкой наедине - оказывалось: все слышала. Вздыхала тяжко: - Мать-то твоя спит и спит перед телевизором… И вдруг спрашивала: - А что: никак не могут они за это наказать?.. - Конечно, нет. Бабушка... Старуха задумывалась. Потом шептала внучке: хочет напоследок проведать сестер. Больше уж: когда и увижу? Старые какие стали. Ей самой сколько: восемьдесят уж есть ай нет, уточняла старуха. А сестры старше. Надюха, средняя, - на три года. Тоже - живет одна, огород, сад. Может, хоть картоху помогу выкопать. Да и совсем бы у ней остаться, чем с матерью твоей тут воевать. Вдвоем - всё веселей топтаться... Няне Сашухе надо отвезти деньги, что давала положить на книжку. Помнишь, спрашивала старуха у внучки, ведь мы вместе с тобой тогда их везли. Внучка не помнила. То есть, конечно, знала - уже по более поздним рассказам старухи: няня Сашуха давала триста рублей. По крохам собирала с собственного сада, не надеялась, что и похоронят ее по-людски. Старший сын няни к тому времени уж умер, младший переехал в совхоз в Тульскую область, с женою жил плохо. Няня колготилась одна в родительском дому. Ехать в приймы к невестке не хотела - но ее опять звали к себе: родился второй ребенок, кому-то нужно было смотреть и за скотиной. Дом собирались продать. Вот дом-то - выходит, еще прадедов, высчитывала внучка - остался в ее памяти. И сад. С двумя черными промороженными в зиму деревьями. Они так и не отошли до июля. А в памяти внучки - уже никогда. Помнила и другой дом, что строил для сына Пашки и его молодой жены свекор. Проходили мимо теперь уж чужого жилища. Старуха еще вспомнила: с самого начала им говорили: место плохое, раньше жила тут колдунья. А когда возвращались обратно из Калабино в Долгушу, шли через лог, где, говорила старуха, многих убивали во время голода, а она с Федькой ночевала по дороге домой. Ездили в Задонок на базар, там старуха указывала: тюрьма, где сидел муж во второй раз. ...Помнишь? - спрашивала, отыскивая в чемодане серую ненадежную картонку сберегательной книжки. Просила внучку посмотреть, все ли в порядке, и глянь, глянь: на меня записаны деньги или на мать. Отчего-то казалось: дочь не хочет отдавать няни Сашухины деньги, мечтает получишь их после старухиной смерти сама. А вдруг из-за этого дочь не станет ее отпускать, думала старуха. Договаривалась с внучкой, что та, может быть, и тайком возьмет ей билет на поезд. Плацкартный - напоминала. Но дочь отпускала старуху как-то даже чересчур легко - это служило поводом для новых обид. Хорошо еще, у старухи появилась другая забота - довезти деньги в сохранности. Она обдумывала, куда бы понадежней их схоронить: в сумку - нельзя, кошелек из кармана - вытянут... Внучка принесла ей билет на поезд. - И когда же ехать? - спросила старуха. - А во сколько я там? Спроси у матери: телеграмму она дала, чтобы встретили меня? - А долго собираетесь гостить? - поинтересовалась уже внучка. - Не знаю. Поживу... Они посидели без слов. Наконец, старуха заговорила о главном: вчера ли, позавчера - не помню уж - ходила гадать. И вот осталось в моей жизни одно - ждать смёрточки... И замолчала. Молчала и внучка. Понимала: спрашивать ни о чем старуху сейчас нельзя. Потом выговорила о усилием: - А... обо мне… не спрашивали? - А об тебе, - ответила старуха с готовностью, - все, к кому ни пойду, говорят одно: самая счастливая ты. И в работе, и вообще в жизни, жить будешь вместе с матерью. Ну, это, как я уеду, перейдете сюда, - добавила уже, видно, от себя. - Вот только об Сереже твоем, - сказала и замолчала на секунду, так что внучка успела отметить: старуха гадает уже о правнуках. - Вот об Сереже говорят... Береги ты его от воды. Потому что такая ему судьба... Но будут у вас и еще дети. Семья из четырех человек... Внучка замерла на мгновение. И вдруг закричала внутри, перебивая страшные старухины слова: «Да зачем же? Зачем?.. Неужели она не понимает?» А старуха все бубнила, улыбаясь собственной проницательности: - Ну, что четыре человека - это хоть и не гадай. Теперь кого ни возьми - у всех по двое детей. Я и сама скажу... «Да зачем же?» Она еще попыталась обмануть старухину прямоту, напомнив: - Бабушка, но ведь раньше вы говорили: уедешь к большой воде. Старуха опять улыбнулась: - Да? Может и путаю. Забывать уж стала. Об воде, говоришь?.. А вот, думается, сказывали что-то и за Сережу. Чтоб берегла его... И вдруг подумала: скорей бы бабушка уезжала. Скорее!.. Хотя помнила, старуха рассказывала когда-то: было в ее жизни и такое гадание - что умрет она не здесь. И выходило: едет старуха не просто в гости. …Старуха готовила утайку для денег. Накануне отъезда к ее рейтузам был пришит кармашек – от воров его отделяли еще двое штанов, надетых сверху, гамаши и чулки со швом. Внучка, которая пришла проводить старуху, и видела всю процедуру одевания, молча улыбалась. Но когда дело дошло до чулок зеленого цвета, вежливо спросила: - Бабушка, может, чулки надевать не будете? Старуха на секунду задумалась. - Нет, одену, - сказала. - Мало ли, какой урка в дороге попадется. Больше в старухины сборы внучка не вмешивалась, но, когда выходили на улицу, не выдержала уже дочь: - Слушай, может, ты хоть кофту наденешь? Осень вот-вот. А то трусов дюжину на себя натянула, а сверху одно платье. - Как думаешь, одеть? - повернулась старуха к внучке. - Наденьте, - ответила равнодушно. Старуха вернулась - хотя это и было плохой приметой. На этот раз она ехала на боковом месте в самом конце вагона. Узкий проход все же отделял ее от компании напротив. Впрочем, там резались в карты, а потом улеглись спать, беззаботно отвернув к перегородкам лица. Им не интересна была старуха, которая в одиночку несла тяготы караула, недоверчиво косясь на всякого, кто исчезал или появлялся в дверях тамбура. Страхи ее были не напрасны: какой-то мужичонка, раз-другой пройдя мимо, вдруг остановился спросить, куда она едет. Обрадовался тому, что встретил попутчицу, пообещал старухе помочь выйти из поезда. Она тут же помчалась к проводницам, и те, убежденные страшными интонациями старухиного рассказа, взялись проследить за указанным пассажиром. Тем не менее, ночь старуха не спала, а днем, выходя в Туле, которую всегда считала бандитским городом и рассказывала всякие ужасы о нем внучке, отдала-таки смущенным молоденьким проводницам один из грех арбузов, которые везла в гостинец. На перроне первым делом она огляделась: мужчина, что назывался попутчиком, с поезда не сошел. Не оказалось и няниного сына, который обещал ее встретить. Это тоже были тревожные минуты. Но потом старуха увидела разом и Николая, и няню, идущих к ней от здания вокзала. Первым подоспел племянник. Затем подтолкнул к старухе свою мать. Сестры обнялись, заплакали. Но только вечером, ближе к ночи, удалось им поговорить. До этого, будто чужие перекликались между собою. - Ну как ты, няня, живешь? - спрашивала старуха. - Да живу… - А как няня Надюха? - Надюха? Да живет. - Топчется еще на огороде? Не болеет? Няня и вовсе, с отвычки, что ли, сбивалась на «вы». - А вы-то… как у себя? Отчего-то смущалась, краснела. Отворачивала от сестры свой слепой белый глаз. Старуха рассудила: няня опасается Тоньки, невестки, боится, что при ней заговорит о деньгах сестра. Сначала ехали в «жигулях». Тонька сидела рядом о Николаем. Потом чуть ни сразу попали за стол. Хозяева хлестали самогонку. Понемногу выпили и старушки. Няне пора было готовить корм для скотины - сестры вышли на кухню. И только тут, когда остались одни, няня сказала: да какая жизнь. Давно б ушла, куда глаза глядят - да Кольку жалко. Тонька совсем его за мужика не считает. Бьет - кулачищи у ней... А он только закрывается. Я заступлюсь - меня бьет. Самогонку эту гонит. С фермы тащит - да мало. Скотины вон сколько от жадности завела. Комбикорм ворованный привозят - она покупает. Колька приедет домой, а она сидит с чужими мужиками - самогонку пьют. А он - и слова не скажи. Однажды совсем уж уйти от нее решился, да Витька из армии воротился. Хорошо хоть он сразу женился - не живет тут. А все одно - пьет. В обед приедет: «Бабушка, мне бы самогоночки». Просит... Ну, укажу, где мать прячет - а та вернется с работы, и сразу туда. Опять Витька был? Да он же за рулем! Разобьется! А сама уж себе наливает. А потом и бьет меня… «Няня, няня...» - бормотала старуха. ...А Колька и нужен ей как шофер - чтоб ей всегда можно выпить. Машину, говорит, расшибет - у меня деньги на другую есть. А что сам разобьется... Да хоть бы не пил, что ли... Уж попадал в аварию, чуть не задавил мальчонку - как-то откупились... Хлопнула дверь - вышла из комнаты Тонька. Няня испуганно замерла у плиты. - А!.. За столом молчите - а тут разговоры разговариваете, - закричала во все горло. И рассмеялась. - Няня Наташа, - позвала старуху. - Идите, что ли спать. С дороги. Я вам вместе постелила. Худющие - поместитесь. Обхватила старуху и снова захохотала. - Идите. Ладно. Скотине сама задам. ...Они лежали вдвоем на кровати, где прежде помещался нянин внук Витька. Старуха никак не могла уснуть. Николай завтра до работы обещался отвезти их обеих в деревню к Надюхе, и она думала об этой новой встрече. Тронула няню, спросила. - Не спишь?.. А помнишь, как лежали все трое мы на печи? Родители уж померли. Это уж много с того времени прошло. Как раз я и Надюха пришли с продуктами. В голод… Ночь. А мы не спим. Темно. И вдруг в углу кто-то как начнет рвать - ну, как тряпки. Мы лампу засветили - он переехал. Походили, поискали - нет никаких ни хряпок, ни бумаг. Нечего рвать. Легли - а он опять... Мы прижались друг к дружке... Надюха, на что бойкая была - и та трясется. А это хозяин - ну, домовой - давал знать, что вот разъедемся все. Рвал... Не догадались и спросить: к худу ай к добру?.. Няня не отвечала. Из соседней, освещенной экраном телевизора, комнаты было слышно, как переругиваются хозяева. - А кто станет ходить за скотиной? - грубо спрашивала женщина. - Я днем с фермы не набегаюсь. Ты, что ль?.. И что-то невнятное бормотал другой голос. - А вот бы нам снова зажить всем вместе, - сказала старуха. - Дом у Надюхи свой. Огород. Картошку выкопаем - зиму, даст бог, проживем. А?.. Господи, - перекрестилась, услыхав, как выругалась за стеной женщина, и мужик всхлипнул, видимо, от боли. - Няня, и как ты живешь тут? - запричитала. – И как терпишь? Няня… И совсем уж зашептала ей в ухо: - Ведь я не забыла. Деньги тебе привезла. Еще и с процентами. До копеечки. Слышишь, няня? И сухонькая старушка повернулась в постели - к старухе помоложе - и тихо, но отчетливо спросила: - Женщина, а, женщина, а кто ты мне будешь? G Читайте также:ПРОЕКТ ДЕМЕТРИУС. |
|
|
|