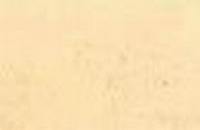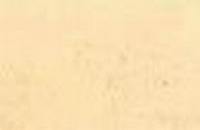ТРИ ИСТОРИИ
МЯЧ
«Но
если вы хотите узнать отца, сравните Его прежде с круглым шаром
небес…»
С
кем можно было заговорить об этом теперь?
Старуха
считала его человеком пришлым.
Никто
не окликнул его и на пути к дому. Впрочем, на улице пришельцу
встретилась только гурьба мальчишек, гоняющих мяч на другой стороне
площадки.
Он
остановился у пустых футбольных ворот, наблюдая игру.
В
самом ли деле, возвращался он в этот дом лишь затем, чтобы добыть некую
истину о себе и двух или трех днях напрочь забытой жизни, которые
свидетельствовали, быть может, о заветнейших тайнах мира – но
он сам знал о них
несравненно менее прочих и вынужденно невыразительно улыбался зряшным
вопросам:
«Ну?
Что же? Неужели ты так ничего и не помнишь?»
Во
всяком случае, это не начиналось, и вовсе не было, страхом –
страхом вратаря перед еще неподвижным пенальти: он словно со стороны
наблюдал за грубым размокшим кожаным мячом со вздувшимся кантом
шнуровки - направленным в промах очевидной цели ему в лицо.
Конечно,
он возвращался в дом также с бременем, впрочем, не тяжких забот:
кормить и не выпускать со двора старуху.
Она
глядела недоверчиво.
-
А как ты вошел? Хозяйка тебе открыла?
-
У меня ключ.
Старухе
давно уже не оставляли ключей.
-
А сама – что же: опять спит?
Оттрапезничав,
поблагодарила несколько раз, словно чужого.
Уходя
в спальню, вдруг остановилась у вешалки, указывая на старую болоневую
куртку, что носила теперь сама.
-
Скажи, а что: живет у нас и какой-нибудь внук? Эта красная – внукова куртка.
Она
словно испытывала пришельца принадлежавшей ему некогда вещью, как и
одноклассники, ловя его звуком имени – ведь на имя же
откликнулся мальчик: и встал, и вышел беспричинно из класса –
а еще часом ранее он говорил с учителем, и казался при этом весьма
разумным.
-
Так, значит, последнее, что ты помнишь, был мяч? –
допытывались они, не веря любому ответу.
Ведь
если мальчик поднялся и вышел мимо окликнувшего его учителя –
значит, куда-то и кем-то иным был он позван, не напрасно, быть может,
скрывая теперь ото всех сию тайну.
-
Ну, помнишь?
Как
судьба Одиссея определялась веслом, о котором скажут: что за лопата у
тебя на плече, - так и присутствие мальчика выводилось логическим
построением из наличия мальчуковой куртки в прихожей. А поскольку не
изменялось имя, мальчик также предполагался быть прежним.
-
И где же он есть? –
удивлялась молчанью старуха.
В
самом деле, что должен был помнить он? Что отвечать, если б, как
одноклассница, пережившая несколько минут клинической смерти, оставлен
был после занятий свидетельствовать у школьной доски?
-
Скажи, а видела ты перед собой свет?
Что
ответил бы, будь ему задан впрямую вопрос единственно важный: о рае и
аде, блаженстве либо наказании – о чем мог бы знать он, хоть
на краткое время оказавшись по ту сторону бытия. Но его об этом не
спрашивали, поскольку то, что происходило с ним, не было все же хоть и
секундной смертью… Впрочем, и в этом пришелец мог полагаться
лишь на мнение задающих вопросы, которые, в свою очередь, доверяли
только собственным глазам и очевидности повседневных непресекающихся
движений мальчика.
-
Ну, как ты не помнишь? Уже начинался ледоход…
Значит,
в тот день он вышел к реке, и чем-то либо кем-то его шаги были
направляемы.
-
Ну, вспомнил?
И
иногда казалось: где-то здесь, среди самых обычных вопросов, укрыто то,
что хотят выудить у него в качестве тайны, что тайна и есть нечто самое
обыденное – но, к счастью, открыть ее не было в его власти.
Он
настораживался.
-
Помнишь? – самый невинный вопрос становился уловкой.
Он
не властен был: открыть или не открыть – но, может быть,
проговориться случайно.
-
А помнишь? Помнишь, как мы ходили смотреть на поезд, переехавший
человека?
Да,
именно на поезд – поскольку самого человека вместе с
ненужными более ногами уже увезла карета немедленной помощи, а поезд
стоял.
Ты
помнишь? – спрашивал пришелец себя. – Ведь ничего
же не было на самом деле: только влажный от моросящего дождя паровоз,
унылые рельсы… Большего они не могли увидеть.
Кроме… Быть может… Да – какая-то
скомканная тряпица между рельсов. Возможно, кепка. И –
конечно же, свет… Он должен был быть. Свет, отмечавший в его
мозгу неизбежную опасность препятствий. Серый, словно бы мутный, свет.
Или же – огнь? – до единообразия выжегший и
засвечивающий небеса и твердь пленки этого дня, врученного в обладание
мальчику, который, проносясь мимо и мимо, не смеет даже решить: а ни
есть ли это на самом деле тьма, сквозь которую, словно обезноженного
инвалида, что минутою назад еще был человеком, - его влекут чуждые
вовсе ему…
Что
же хотели они выведать у мальчишки, который даже не был теперь тем, за
кем следили они?
Истину
о чем хотели добыть: о самом ребенке? о свойствах тех времени и места,
куда ввергнут был он? или же о том,
кто, наблюдая, как и они, вел их одноклассника между пространств
видимо-невидимого события?
Он
жил в доме вторые сутки, и старуха постепенно привыкала к нему.
Время
от времени справлялась она о хозяйке.
-
А где же сама? Уехала?
-
Да.
-
Ох-ох, и как я буду здесь ночью одна?
Казалось,
только хитря и выведывая, кто же таков на самом деле пришелец, не
называла она хозяйку дома ни дочерью, ни по имени.
Греясь,
сидела во внуковой куртке на кухне.
Затем вновь делала круг по комнатам, останавливалась у запертой двери.
-
А хозяйка, что же – спит у себя?.. Спит и спит… А
ну как умрет ночью. Что мне с ней делать?
Теперь,
в твердой памяти одинокого человека – вначале днем, а затем и
в полной темноте, ближе к ночи, надеясь повторить вероятные пути своего
отсутствия, - пришелец уходил полем, вдоль железной дороги, через
лесопосадку и мимо конюшен ипподрома – к реке, и, глядя в ее
пустынные воды, он полагал, что едва ли интересен окружающим лишь
механизмом забвения. Да он и сам понимал, что не крался бы в таком
случае, аки тать, среди пустыни ночи – с полузабытым уже
чувством детского стыда, годного разве для утаенных от одноклассников и
родителей шалостей и грехов… «Бог видит
все…» Конечно, давным-давно это перестало быть
столь новым и острым, как в те дни, когда он впервые узнал от старухи,
что не только дело, но и всякий помысел свой не волен укрыть…
А
что, если ничего не было?
Что
– если не было ничего?
Что,
если он, человек, пусть мальчишка, своими пятью чувствами создающий все
эти деревья, реки, паровозы – весь этот мир из хаоса
невидимостей - если тогда он попросту ничего не создал?.. Если он
только шел, двигая за собой кусок первозданного дымящегося хаоса
– а некто пытался увидеть это и
проследить…
Что
мог бы вспомнить он, чтоб ответить?
Дорожка
вдоль заборов освещалась из старухиного окна.
Он
вошел в дом.
В
старухиной комнате был открыт шкаф. На полу, выдвинутый из-под кровати,
зиял чемодан. Готовясь загодя к смерти, старуха в который раз
осматривала свой смёртный наряд.
Окончив
разбирать вещи, вернулась к своему стулу у окна.
-
Ты глянь, глянь, как там у них горит.
Она
улыбалась, зовя внука, которого словно не замечала до этого.
Были
видны только огни дома напротив.
-
Ну, окна…
Старуха
оглянулась недоверчиво.
-
Окна?.. Ты вышел бы поглядеть. У нас горит
ту…ускло… Ну, выдь, выдь…
Она
улыбалась ласково, отчего-то желая услать пришельца на улицу.
-
Ты рази не боишься?
-
Чего?
-
Ну этих… Что ходят глядеть по окнам, у кого какой свет?
-
Кто это?
-
Ты должон знать… Поглядят-поглядят – и уйдут.
От
растерянности он молча задернул шторы и выключил свет.
-
Спите…
Наверное,
кто-то, в самом деле, тогда наблюдал за ним. Быть может, и держал за
руку, отводя от рельсов и реки, ям и деревьев… И теперь
– слежка возобновлялась вновь?.. Ничего, просто ничего не
оканчивалось, производя ежесекундно это странное отчуждение –
не то природное и неодолимое несоединение индивида и целого,
перманентности «я» и разорванности, дискретности
мира – но нечто иное…
Стыд
– вот что разделяло их… И даже – нет, не
то, что могло возникнуть меж тайно наблюдающими за беспамятным и
беспамятно совершавшим жизнь их одноклассником. Ибо невозможно было и
помыслить дела: даже убийства или насилия – которых хотя бы
один из них не совершил, и не возгордился, а прочие бы не преклонились.
Во всяком случае, и это прощалось. А значит…
Он
вздрогнул и резко обернулся на скрип.
Это
была старуха, проследовавшая за пришельцем из спальни в кухню.
-
Что вы хотели?
Он
смутился. Он устыдился, быть может, даже того, что грел для себя на
огне молоко, а старуха, не помня и имени пришельца, могла счесть это за
воровство.
-
Скажи, там красная висит – не твоя куртка? А то я
надеваю… Ты мне не внук?..
Она
улыбалась. Она заранее прощала пришельцу то чувство неловкости, что
едва шевельнулось в нем.
Оставался
ли он по-прежнему ее внуком?
Едва
ли это мог быть один только стыд…
Что-то
поистине ужасное либо недоступно-благостное должно было открыться
вдруг, нечто не присущее человеку вовсе и каждому из соглядатаев его
именно – дабы возникло чувство неодолимого различья меж
каждым из них и человеком же, сверстником их, что предстал вдруг пред
ними иначе, чем человек, и был увиден – и пристыжены были
своим неловким присутствии при невозможном. И стыд длился и длился, ибо
не знали, воротился ли из недоступного им одноклассник их прежним, либо
оставался тем, кто открылся им вовсе, быть может, и не как человек.
Он
вымыл чашку и ковшик и перешел в комнату.
Книга,
которую читал он все последние дни, лежала на крышке магнитофона.
Для
старухи, которая по-прежнему не ложилась и следовала за ним, пришелец
включил телевизор.
Конечно,
не стыд был в нем, но только неловкость от невозможности вспомнить и
отвечать на свидетельские вопросы.
-
Но ты хотя бы чувствовал что-то?
Все
же это была часть его жизни, избравшей одного из многих и отбросившей
за пределы свои… И если он ощущал себя блаженным либо
наказанным – это и было истинным. Ибо только внутри нас и
существуют сии противоположности, явленные, возможно, вовне как
неразличимое. И быть может, задающий вопрос лишь хотел убедиться, что тот другой, ничего не помнит, и то, что
явилось для них стыдом и адом преследования и наблюдения, на самом деле не есть чем-то вовсе
противоположным.
Чем
же было поистине это время и место? Не попросту ль несуразным первичным
хаосом, что не в силах ни ранить, ни пленить увлеченного в его
томительную аморфность?..
-
А дети-то у тебя есть?..
Он
оглянулся на старуху, которая смотрела на него, а вовсе не в экран
телевизора.
Оставалась
ли прежней теперь и она?..
-
Ты что же – уйдешь? Женился бы – и переходил сюда.
Места вон сколько.
Что
мог он ей ответить?
-
Я ведь скоро уеду. За мной уж на лошадях приезжали. Да хозяйка
нагрузила своих вещей воз. До-вер-ху. Меня и посадить было некуда.
Поистине:
«Ад есть несбывшееся, - читал он. - …Мир же
шарообразен, ибо такова форма и его прародителя».
Что
означало отсутствие воспоминаний о месте, куда он призван был,
возможно, не только присутствовать, но – найти или потерять?..
Если
он возвращался оттуда невредим – не будучи, то есть, наказан,
а место до рождения, о котором нам также не дано ничего помнить, не
является, надо полагать, адом – возможно ли помыслить о крае
блаженства как о гулкой пустоте, о которой и вспомнить, и сказать
нечего; о рае – как о вовсе не связанном с мирами явленного? О месте забытья –
как о месте ином, чем это? Либо о загадке и разгадке блаженства
– как не связанной вовсе с пространством предметов, но только
– с временем и памятью человека?
Бог
не помнит, что было с ним и тварями земными вчера…
«Сущность
же его шаровидна и нисколько не схожа с человеком; Он весь –
зрение, и весь – слух, но дыхания нет в
нем…»
-
Он же глядит на тебя.
Пришелец
вздрогнул от неожиданности. Старуха держала его за руку, указывая на
телевизор.
-
Глянь, ты положил книжку на шкаф – и он повернулся.
-
Кто?
Она
говорила о дикторе на экране.
-
Да ты не смейся. Он же все видит.
Он
попытался развернуть телевизор к стене, доказуя нелепость старухиных
слов.
Длина
шнура и размер тумбочки не позволяли совершить этого.
Старуха
улыбалась ему, как несмышленому дитяти.
-
Я же совсем могу его выключить…
-
Хозяйка, бывалача, тоже храпит и храпит. А он все видит. Он же погрозил
тебе…
Пришельцу
казалось, что так же точно, как прежде следили за ним –
наблюдал за старухой теперь он сам, стараясь по явленным ему словам,
мимике, жестам установить истину о происходящем с нею на самом деле.
Она
почти ничего не помнила. Даже прошлое ее, пожалуй, лучше знал он
– по давнишним рассказам, наговоренным когда-то по его
просьбе на магнитофон старухой… Время от времени пришелец
включал этот старый бобинный аппарат, вздыхающий уже несуществующими
словами.
И
все же была и некая другая явь, которой не умел овладеть он.
И
кто-то, в самом деле, заглядывал в окна старухи, и принимал от нее, и
возвращал что-то ей.
Он
исчезал, этот странного вида мужик, издалека различая спешащего к дому
пришельца.
Кто
это был?
И
с каких времен оставались под окном битая кружка и бесформенный клок
пустой, словно змеею сброшенной, кожи мяча?
Подобно
тому, как ускользающая мысль представляется наиболее ценной, пришельцу
казалось совершенно необходимым выяснить самые подробности: кто именно?
Старуха
улыбалась ему с тем же неизменным просветлением, с которым то и дело
оборачивалась к окну.
-
Он же из нашей деревни. Я и поеду с ним.
-
Куда?
-
К сестрам. Лошадей накормит-напоит – завтрева и поедем.
Раздосадованный,
он по наитию заглянул под кровать. Там были хлеб и аккуратный рядок,
видимо, заоконных пустых бутылок.
-
Вы, что же, и еду отдаете им? И давно это?
Старуха
всплеснула руками.
-
Мужики-то попьют-попьют, да кружку и не возвертают. Вот я и выглядаю их.
-
И куда же собрались вы с ними ехать? – спросил внук.
– Сестры-то ваши умерли.
Она
помрачнела враз.
-
Ах, ах… Никто не сказал. А еще и глядела в окно. Это ж ее
несли?
-
Кого?
-
Сестру мою. Хоронить несли. Сестра же моя умерла. А мне никто не
сказал. Мамушка ты моя, одна я осталась…
Кончиком
платка старуха махнула у глаз.
Он
почувствовал себя вдруг в аду бесконечного повторенья одного и того
же…
-
Ну, а хозяйка? – сказал пришелец. – Это ведь ваша
дочь.
-
Хозяйка? Она ить уже здесь не живет.
-
Она только уехала в отпуск.
-
В отпуск? Ну, так говорят… А там пождешь-пождешь…
Ты слухай, - она наклонилась и громко зашептала в ухо пришельцу.
– Как ее тот ругал. Она-то и не слыхала – спала.
Вот те – и отпуск…
Он
вышел, оставив старуху одну.
Она
пела за дверью: «Мамушка ты моя…»
Она
словно возвращалась в младенчество.
Так
думал теперь пришелец: о младенце и о старухе.
Так
мог думать теперь он: о старухе и о младенце одновременно.
Что
же, рассуждал он, если это на самом деле так, если мы являемся в жизнь
из беспамятства и, прожив ее, к беспамятству же возвращаемся
– не располагаются ли пространства до и после нашего бытия в
пределах одного и того же? И действительно ли это есть место
человеческого отсутствия? Позволительно ли говорить о несуществовании
лишь потому, что человек не помнит обратного? Он не помнит появленья на
свет, не помнит себя в чреве матери – однако, человек уже
был. Исчезает ли он, в таком случае, вместе со своей памятью? Исчезает
ли как человек? Ибо беспамятство не означает даже расставания с телом
физическим… Не указует ли блокада нашей памяти до и после
пребывания в мире только то, что человеку середины не выдержать знания
крайностей? Он был там, и он туда возвратится, но здесь не снести
человеку истины и разгадки целостного существованья… Он был
в чреве матери: кем же? – не человеком?.. Что знал и чего не
мог вспомнить он?
Пришелец
включил наугад голос магнитофона.
«И
вот пришли они к могучей реке. Поглядели – нет нигде никакой
лодки. И муж товарищу говорит: Ну, ты, говорит, погоди. Товарищ его
плавать-то не умел. Погоди, говорит, если переплыву сам, то я вернусь и
тебя как-нибудь переправлю».
Он
прокрутил кассету дальше.
Старуха
вошла и села на диван рядом с ним.
«Вот
так и было… Мать твоя возьми – и выставь вещи его
за порог. Ты-то еще дома был, должон помнить. А как в школу уходил
– дверь она за тобой и не закрыла. Отец-то пришел, увидел
такое дело – потихоньку думал войти… Да я увидала.
Гляди, весь бок черный еще у меня – думала, что помру. Так
давил он меня дверью…»
Он
ничего не мог вспомнить. Словно и это происходило в дни, о которых
выпытывали его.
Старуха
же улыбалась, словно слушала радио.
Имело
ли смысл спрашивать ее теперь о мяче?
-
Ну, узнаёте?
-
Господи…
Она
хитрила, прислушиваясь к голосу.
«Когда:
видит отец, что не выходит такое дело – схватил из летней
кухни веревку, и ну лезть на чердак. Он ведь кажный раз матерь твою
пугал, что удавится…»
Ничего
больше старуха не сказала б ему.
Что
же было истинным там?
Откуда
он затем возвращался, и – возвращался ли?..
Она
молчала.
«…А
была зима. Темно, снег метет. Ну, думаю, тут меня и убьют. Мешок-то с
отжимками у меня на плечах – не убежать. Дороги не видно. Где
я? И вот – поверишь? – идет навстречу (не было ж
никого – откуда ему и взяться?) старичок такой, белый
весь…»
Старуха
вздрогнула.
Он
повернулся к ней.
-
Узнали?
- Как же…
«Я
уж и думала, что помстилось мне. Когда – вот он навстречу
милиционер наш сельской. Видела, говорит, его? Николу-то Угодника
видела?..»
Она
вздохнула.
-
Да, тоже жизня у женщины была. А и у меня – хорошего
вспомнить нечего… Ты бы хоть дверь мне открыл –
хозяйка меня на улицу не пускает.
Старуха
надела в прихожей школьную мальчуковую куртку.
«И
когда же смертушка возьмет меня?»
Из
кармана брюк пришелец достал ключ.
Разве
в том, рассуждал он, корень несчастья, что я голоден, и мне негде взять
пищи? Разве огнь жжет мне ладони и пятки? Боль засела и всегда готова
отомстить мне, ибо это я, не вместивший в себя мир, двигаясь
– расшибаюсь ежесекундно об углы и пределы внешнего. Могу ли
избегнуть я боли, вместив в себя мир – то есть, став богом?
Или же – уничтожив мир, не помня о нем, не увлекая за собой
всю череду ненужных и бренных предметов? Ибо мир, в котором нет ни
будущего, ни прошлого, но только данность этой секунды –
разве может стать основанием счастья или несчастья? Разве все, что
фиксирую я – я отмечаю ни как изменение, как нечто, чего до
этого для меня не существовало? Разве не время дает возможность
сравнивать и выбирать: не из реальных мгновенных предметов, а только из
образов в голове человека? Выходит, и боль – лишь порождение
мною же созданных образов?
-
У, да тут снег…
Старуха
остановилась в распахнутых дверях.
-
Ну, никуда я и не пойду. У меня и валенок нету.
Она
постояла, глядя в отворенную мерзлую темноту.
Они
вернулись в комнаты.
Почему-то
был развернут экраном к стене телевизор. Огни вспыхивали и гасли на
елке через отведенное время.
Существует
бесспорная бездонная истина о том, что человек есть. Но также
– истина о том, что человек умирает, а прежде является
неведомо откуда на свет. Однако, жалеет он всегда не о времени, когда
не было, но – когда не станет его. Объяснимо ли это лишь тем,
что прошлое – плохо ли, хорошо ли – завершено:
пращуры неизвестны либо уже безразличны – но человек
оставляет в неведомом ему здесь детей и внуков, и детей внуков своих.
Не говорит ли неодинаковость двух этих не существований – до
и после – о том, что созданный однажды из ничего, из
равнодушия, в своем беспокойстве по смерти человек не исчезает вовсе?
Что никаких повторений и возвращений нет – время разомкнуто и
не очерчивает круга?..
Что
же там, у реки: страна мертвых или безвидный край нерожденного
– открылось ему?..
Кто
из ничего создавал человека и, как за малым дитятей, доглядал за ним?..
Мальчик
и женщина глядели с фотографии в книжном шкафу.
Пришелец
выключил свет. Стараясь не глядеть в черноту окна, закрыл ставню.
Не
помещалась ли истина о человеке где-либо на краю его существованья? Не
была ли она соединением: памяти и беспамятства, бытия и отсутствия? И
если даже человек был только рожден – не состояла ли истина в
единстве рожающего и еще не рожденного? Кто более подтверждал
существованье другого: мать ли? младенец? свет или тьма чрева? Один ли
свидетельствует об истине?
И
что ответил бы на это отец?
Из-под
дверей спальни выбивалась полоска света. Что-то бубнила старуха, быть
может, гадая: для дома, для семьи, чем сердце успокоится…
Он
прислушался.
Почти
шепотом старуха говорила кому-то:
-
Ну, подойди же к окну. Ты глянь: я тут одна…
Стараясь
не шуметь, пришелец защелкнул замок комнаты и придвинул к двери стул.
Поднял
телефонную трубку. Молчание.
Стукнули
в окно – так стучал,
просясь в тепло, кот. Но за запертыми ставнями этого нельзя было
разглядеть.
Проскрипел
на улице снегом. Помедлил чуть и пошел дальше.
Пришелец
включил магнитофон, чтобы думали, будто он не один в доме.
Ударил,
хрипя, молоточек звонка.
«А
мать-то тоже боялась лошадей. Она ить девчонкой попала под
телегу».
Не
выключая нигде света, он подошел к входной двери.
Помолчал.
Кто-то
дышал напротив него на морозе.
-
Кто там?
Тот
засмеялся.
-
Открой, увидишь…
Отчего-то
голос казался очень знакомым. Да и как, не открыв, узнать того, кто не
хотел назвать имя?
Он
крепче сжал отвертку, которой намеревался обороняться от желавших
проникнуть в дом.
Не
открывая задвижки, он повернул ключ в замке.
Видимо,
тот знал устройство запоров, ибо не навалился, как можно было ожидать,
со всей силой на дверь.
Впрочем,
ничего не стоило выдавить с улицы стекло в раме веранды. И пришелец не
решался глянуть поверх занавесок в окно.
-
Чего ты хочешь?
-
А тебе не нужно встретиться со мной?
На
улице засмеялись.
-
А хозяйки разве нет дома?
-
Она
спит…
-
Это в такой-то праздник?..
Он
не ответил.
На
крыльце тоже молча потоптались.
-
Так ты не откроешь?
-
Нет.
Было
слышно, как спустился тот со ступенек и пошел, огибая дом.
Его
еще можно было увидеть сначала в окно кухни, затем –
столовой. Даже в калитке он виден был бы из старухиной комнаты.
Но
у нее свет был уже потушен. Наверное, старуха легла – хотя
еще не было слышно всегдашнего храпа.
Пришелец
подумал, что не отопрет дверь даже, чтобы увидеть, жива ли старуха. Да
и что делать, если вдруг она умрет ночью?
Он
наклонился, придвигая ухо вплотную к двери.
Кто-то
резко засмеялся в темноте за его спиной.
Отвертка
выскользнула из влажной руки.
Испуганный
и гадкий себе самому, пришелец оглянулся.
Окно.
Телевизор.
Кто
и откуда теперь наблюдал за ним?
«И
это так хотел он ослобониться, убить меня…»
Читайте также:
ИГОРЬ ВЕГЕРЯ. ПРОЗА.
ПРОЕКТ ДЕМЕТРИУС.