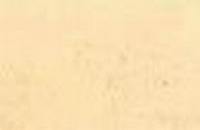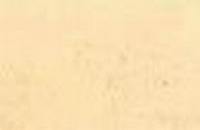ПРИЛОЖЕНИЯ И ЭПИЛОГИ
ОБ ОСНОВАНИЯХ ИСТИНЫ
1.
Я знаю нечто, полагаемое неопровержимым. Я верю этому. Либо –
приняв убедительность рассмотренных доказательств, либо – под
давлением очевидного. В последнем случае, моя вера сама становится
источником убеждения.
2.
Насколько прочно любое из оснований?
3.
Если я доверяю априори неким вещам и явлениям – откуда это во
мне? Достаточно ли
вески основания их
присутствия? Полагаясь на очевидное, полагаюсь ли я на себя, на
безусловные свойства мирозданья или же – на мненья людей?
4.
Каково число таковых самоочевидностей? Каким образом я выделяю их среди
прочего? Сознаю ли, что опираюсь именно на это, а не иное?
5.
Постоянно ли их количество? Непротиворечивы ли они?
6.
Могу ли я установить опору действиям
однажды и навсегда? Или всякий раз обязан поверять собственную
уверенность скептическими вопросами?
7.
Если многие привержены одному постулату – не основана ли их
вера на разных, а не общей посылке?
8.
Не практикующий общепринятых
взглядов – несведущ лишь в положениях логики или ошибочен
исходный пункт его построений?
9.
Может ли последнее основание всего, моя надежнейшая опора оказаться
обманной?
10.
Рассмотрим ситуацию с неким предметом, постоянным в своем составе
безотносительно к времени. Возьмем книгу.
11.
Оценим некий том, не касаясь его содержания. Книгу на доступном нам
языке, в которой, к
тому же, не
встречено ни единого незнакомого слова. Однако, не известны время и
место действия. Не сообщено также имени главного героя, ибо в тексте
имеется запрет на его произнесение. В случаях же обращения иных
персонажей к нему использованы имена заведомо ложные. Впрочем, события
книги не становятся оттого совершенно бессмысленны. Не ясно только где,
когда и с кем они происходят.
Вопрос
таков: является ли то, что прочитываем мы, истинным содержанием?
12.
Следует также понять, что пример с книгой не взят наобум; он не есть
исключительный и искусственно выстроенный факт жизни – но
факт всего лишь и именно задокументированный. Ибо жизнь наша неразрывно
связана с речью, через которую мыслим, открываясь другим, и которую
слышим; речь всегда: вне и внутри нас. Однако, она не зафиксирована на
бумаге, а доверена памяти, которая избирательна и изменчива.
К
тому же, допустим, кто-то в самом деле говорит об измене.
13.
Кто-то входит сообщить, что отныне измена – свершенный факт.
Некто называет имена, а также место действия. Он указывает дату и время.
Как
отнестись к этому?
14.
Как обстоит с этим дело в книге?
В
самом ли деле ложные имена героя принадлежат одному человеку?
Нет
никаких достоверных указаний на этот счет. Проблематична также связь
времени и места изображенных событий. Видимо, описаны произвольные либо
с умыслом отобранные эпизоды чего-то несвязуемого. Это подчеркивается и
структурой самой книги, которая, возможно, и не является цельным
повествованием – а сборником тематически близких рассказов.
Нельзя даже с уверенностью сказать, принадлежат ли все помещенные здесь
тексты одному автору.
И
многие из тех, кто прочел их, действительно согласны с последним.
15.
Но те же самые люди убеждены, казалось бы, в логически недоказуемом: в
книге описаны подлинные истории. Более того: некоторые утверждают, что текст
содержит также события, которые еще не имели места,
но обязательно вскоре произойдут.
На
чем базируется эта уверенность?
16.
На чем основана вера людей в то, что этот мир суть не набор эпизодов,
но некое связное описание бытия одного, произвольно названного по
имени, существа? Откуда уверенность в том, что вся жизнь случается с
одним человеком?
17.Некто
входит и говорит об измене. Он говорит об измене –
следовательно, ему известен человек, к которому обращена речь. Видимо,
он установил для себя набор постоянно присущих именно этому лицу черт.
Однако:
отнесена ли и предрасположенность к претерпеванью измены к свойствам,
имманентным данному человеку? Смеет ли судить об этом рассказчик?
Знает
ли сам человек о переменах в себе?
Ясна
ли при этом роль стороннего наблюдателя? Является ли он участником
события или же судией? Каково его отношение к вышеназванным двоим, а также
– к истине?
18.
Если некто сообщает об измене именно мне – видимо, он
полагает, что данный факт мне в особенности небезразличен.
19.
Допустим, я вовлечен в некоторую систему отношений. Скажем, я наблюдаю
восход солнца. Положим, мною намеренно возведена башня, и каждое утро я
поднимаюсь ступенями ее лестницы. Следует ли из этого, что солнце
непременно взойдет завтра?
Я
полагаю, что так и будет. Я считаю свои усилия по созданию
благоприятных условий наблюдения вовсе не тщетными. Я опираюсь при этом
на собственный опыт, а также известные мне доказательства. Я знаю с
чужих слов, что земля шарообразна – это было не только
вычислено, но также увидено со стороны.
Но
– какова форма солнца? Что представляет собой оно? Как могу я
знать то, чего не охватил взглядом, чего не коснулся своими руками?
Однако
посредством зренья и осязания познается лишь оболочка предметности.
Человеку ни при каких условиях не раскрыть сущности внешнего для него
объекта.
Но
также не может знать человек и системы, в которую помещен, где
пребывает вечно как пограничное существо, лишь испытуя внешние по
отношению к нему элементы.
20.
Значит, мы доверяем нашим органам чувств.
21.
Если в книге скрыто имя героя – важно ли это? Каково
отношение умолчания к истине? Не заключена ли сама истина в том, что не
ложное имя не может
быть названо?
С
какой целью книга устроена так, что нам не дано судить о дозволенности
зрить героя иным персонажам? Герой либо одинок, либо между ним и
прочими – неодолимая взглядам преграда.
Но
голос его заполняет безвидность.
22.
Тот же, кто говорит об измене, называет и имя. Ибо он вынужден
обозначить того, о ком идет речь. Но никто не принужден при этом
возвещать правды.
Возможно
ли таким образом, не кривя душей, напрочь избегнуть имен, говоря: та,
которая часто бывает с тобой? Либо – та, что уходит от тебя
исполнять повеленья врача? Будут ли равноценны два таких сообщенья,
указующие на одного человека? Да – ибо не изобличают измену,
но лишь описывают способы времяпровождения индивида. Более того,
возможны иные нелживые предложенья, отнесенные к той самой женщине.
Достоверность же сообщения об измене заключена не в строении фразы, но
определена ее
генезисом: передает ли некто слышанное иным или формирует сообщенье на
основе увиденного. При этом оставим без рассмотрения случаи
преднамеренной лжи. Измена не становится фактом, прежде чем
зафиксирована со стороны.
23.Таким
образом, возникает проблема наблюденья и наблюдателя.
24.
Не будет ли вернее сказать: мы столкнулись с невозможностью наблюденья?
25.
Некто входит и говорит: «Твоя девушка изменила
тебе».
Некто
добавляет также: «Я знаю это».
Между
двумя утвержденьями зияет молчание. Некто не был ни о чем спрошен, ему
не задали вопрос о достоверности – но он сам счел необходимым
уточнить: «знаю».
То
есть, он видел.
Видеть
же означает ни что иное как видеть собственными глазами, наблюдать.
26.
Итак, некто собственными глазами наблюдал факт измены. Каким же образом?
Допустим,
он входит без стука в кабинет врача. При этом открывается то, очевидцем
чего ему не позволено быть. Скажем, некто видит, как женщина спешно
запахивает халат, надетый на голое тело. При этом наблюдатель ставит
увиденное в некую логическую цепь, составляет представление о событии.
Однако, следуя критерию объективности, он не смеет сообщать об
увиденном как о мненье, но лишь – как о факте наблюденья
своими глазами.
Значит,
он не может говорить об измене.
27.
Слово-звук не имеет самостоятельного бытия, слово не может само по себе
быть истинным или ложным. Но это не ставит под сомненье истинность
конвенциального общения.
28.
Некто волен сказать: я видел, как женщина, исполняя повеленье
врача…
Разве
измена может состоять в повиновении доктору? Разве поспешность действий
(запахиванье халата) не вызвана очевидным стыдом перед сторонним
наблюдателем? И если даже женщина в кабинете – медсестра, не
остается ли она, во-первых, женщиной, подверженной страхам?
29.
Случайный наблюдатель видит только часть действия. Он ничего не может
понять, ибо событие истинное происходит не здесь и теперь.
30.
(Впрочем, некто волен прочесть об измене в книге, поскольку таковая
вмещает и факты, которым еще должно случиться).
31.
Но текст трактует и о ложном свидетельстве.
Словами
одними наставляют самозванные волхвы и пророки. И в истинах, и в именах
тайных я доверяюсь тому, кто пишет. Но он не указует перстом мне слов
правды. И души праведников не усомнившихся даны в искушение дьяволу.
Выходит,
мне определено заблуждаться?
Значит,
ни верою, ни мышлением не заслониться мне искушения?
32.
Если мне достоверно известен хоть один случай, где некто путями логики
приведен обману, если я знаю факты непреднамеренных заблуждений с его
стороны – разве не может все повториться?
33.Некто
заблуждается, говоря об измене.
Тем
самым он вводит в заблуждение и меня.
34.
«Или ты должен увидеть все собственными глазами?»
«Да»,
- соглашаюсь я.
35.
Выходит, заблуждение – это то, во что можно ввести: некое
состояние либо пространство, что остается пустым до времени –
как дом, как лоно женщины…
36.
Если я вхожу в безлюдный коридор отделенья, если безропотно ожидаю у
двери – это вовсе не значит, что я уже на пути к истине.
Я
вижу только стены и дверь, стены и стулья. Ожидая, я гляжу молча, как
уличаемая в измене выходит из кабинета. Знаю ли я о протянутой из
прошлого в грядущее цепи событий? Я лишь могу констатировать. Женщина
спрашивает: «Значит, ты все же пришел шпионить?..»
37.
Как отыскать правильное решенье?
Что
я должен ответить?
38.
Если мне предлагают две вещи на выбор, и речам ответа моего рады:
«Как хорошо, что ты выбрал именно это». Могу ли я
знать, что слова собеседника искренни? Способна ли конструкция самой
фразы однозначно выражать истину? Не рад ли искуситель, наоборот, что
не взял я иного, о чем пожалел бы он в большей степени? Чему рад
другой? Из чего исходит, предлагая мне выбор: из щедрости? Из скупости?
Я никогда не узнаю этого. Но и он едва ли оценит объективно свои
побужденья.
Решенье
проблемы тёмно, так как неверно задан вопрос.
Другой
рад совпаденью. Хотя и ему не известен мотив моего решенья. Из чего
исходил я: из чувства любви к ближнему? Из чувства корысти?
39.
Не ложно ли учит о любви к ближнему и сама книга? Разумеет ли текст под
словом «любовь» состоянье любви? Стану ли я, любя,
поступать рассудительно? – я не знаю. Что могу вообще знать о
любви я, переживая ее, находясь внутри? Не обстоит ли дело таким
образом, что о любви судит лишь тот, кто уже или еще живет вне любви?
Знает ли достоверно о любви проповедующий ее? Не учит ли книга, в самом
деле, лишь согласию с ближним? Не говорят ли мне только о совпадении?
40.
Как, в самом деле, могу я избегнуть разлада?
Как
поступить мне разумно и не выпасть, не оказаться вдруг вне любви?
Как
ответить согласием на вопрос, где «да» не совпадает
с принятым значением слова?
41.
Зачем я здесь? Чего на самом деле желаю я для себя?
42.
«Ну, ты видел теперь?» – спрашивают меня
двое.
«Да».
Стены
и стулья, и дверь кабинета.
«Ты
видел, она выходила с мужчиной».
«Ты
видел, это пациент с повязкой на голове».
43.
Если я доверяю двоим – кому из них я доверяю больше?
Основывается
ли моя вера на соответствии события запечатлевшим его словам?
Я
уже верю или не верю словам человека. Ибо он – мой друг,
никогда прежде он не лгал мне. Следовательно, я не имею оснований
сомневаться в его правдивости.
Но
разве не верю я той, что теперь обвинена моим другом в измене? А если
верю – достаточен ли опыт откровенности между нею и мной?
Ведь ее прошлое известно мне меньше, чем прошлое друга. Я слушал ее
рассказы о детстве, не ища подтверждений. Впрочем, иногда она указывала
некий предмет, влекущий воспоминанья: улицу, дом…
44.
Зачем прихожу я в коридор этой больницы?
Имею
ли я достаточно оснований доверять и собственным умозаключениям?
Я
не могу опровергнуть или подтвердить того, что не вижу. Ибо как мне
совпасть с событием, которое уже минуло? А если даже не минуло, но еще
длится – как окажусь я в той комнате?
45.
Зачем прихожу я сюда вновь и вновь?
Да,
она вышла из дверей вместе с мужчиной. Но разве не так же верно, что
этот мужчина – пациент с повязкой на голове?
46.
Вопрос женщины: «Ты явился шпионить?» –
по сути, тот же, лишь окрашенный страстью, вопрос о возможности
наблюденья. О – невозможности.
47.
Шпионить – значит не увидеть случайно, но намеренно выстроить
факт наблюденья.
Мой
друг, медицинский студент, указывает мне время и место. Однако не в его
власти усадить меня в стеклянный шкаф внутри кабинета. Он не может
также сдвинуть со своего места стены.
48.
В таком случае, откуда знание, добытое им?
49.
Зачем я прихожу сюда вновь и вновь?
Женщина
говорит: ну что тебя мучает? Тебе ведь сказали уже, и ты знаешь. Или,
чтоб поверить, тебе надобно видеть? Пожалуй, мы устроим и это. И я хочу
даже, чтоб ты решил сам: чем это было… Потому что затем нас
призовут в место, где всем и друг другу мы не выскажем иного, кроме
согласья…
50.
Но если даже наблюдатель – не случайный очевидец эпизода, а
осведомлен о днях прежних и прозревает грядущее – наблюдает
ли он? Не стал ли он сам персонажем действия?
Что
иное происходит теперь?
Возможна
ли измена тому, кто знает, и присутствует, и дал согласье?
51.
Как установить факт неверности наблюдением?
Ведь
прежде должно понять, что меж двоих неизменно. А кто, помимо
обвиненной, посвящен в это?
52.
Впрочем, книга указывает и иной путь овладения истиной, кроме зренья.
Я
разумею эпизод, живописующий тщетную попытку слепого удержать
незнакомца. Постигнув, наконец, пред кем предстоит, слепой разжимает
десницы свои – убежденный, впрочем, не словами, коим до конца
не поверил – но осязающим плоть перстам.
Строго
говоря, наше повседневное знанье основано на совпадении осязаемого и
зримого, удостоверяющих друг друга. И книга подтверждает невоплотимость
истин посредством лишь описанья: героя невозможно видеть и удерживать
одновременно. Поэтому имена называемые – ложны.
53.
Поэтому влагаю пальцы мои в точащие кровию раны.
54.
«Что же, ты убедился теперь?» –
спрашивают меня.
«Нет».
Ибо
не соблюдено ни одно из двух непременных условий познанья.
Я
ничего не видел, мои руки оставались пусты. Я никогда не входил и не
войду в запретную комнату. Из этого я вывожу, что ничего не было. Ибо,
если в результате изученья я получил мир, в котором нет места мне
самому, я постигал ложно.
55.
Я хочу сказать только одно: если измена имела место, я находился рядом.
56.
«Но тебя ведь не было там?..»
«Да».
Ибо
если изменяли именно мне, значит, обо мне думали – и, даже не
подозревая о том, я присутствовал в комнате. Я был там. Я стоял между
ними. Я разделял и соединял их. Но сам не видел ничего и не слышал. Я
пребывал как бы с завязанными глазами, и уши мои были заперты, а руки
сцеплены намертво за спиной.
57.
То есть, присутствие в кабинете ничем не отличалось
от сидения в коридоре больницы?
58.
На вопрос, поставленный таким образом, я отвечаю:
Если
мне предлагают две вещи на выбор, я знаю, что могу отвергнуть любую из
них. Но я вправе отказаться и от обеих. И это также может совпасть с
желаньем дарителя.
59.
Поэтому я выбираю стул в ряду подобных ему у стены. Когда же подходит
женщина, я говорю: «Я ждал. Я провожу сегодня
тебя…»
60.
Ибо я полагаю, что, находясь в одной комнате с ней, оставался невидим.
Но
тогда, если присутствие мое в кабинете не замечено ею – не
была ли с завязанными глазами она?
61.
Женщина стоит передо мной, не умея ответить.
Если
наблюдение невозможно, мое знанье есть попросту вера в слова.
62.
Но, даже допустив, что непостижимым образом я увижу из-за стены все
происходящее в комнате, и потребность в чьих бы то ни было словах
отпадет – ибо с этой секунды я волен не интерпретировать, а
рассматривать всякое событие в любой удобный для меня момент времени
– вплоть до логического завершенья…
63.
Устраняется ли тем самым проблема доверия?
64.
Но прежде рассмотрим выражение «дом с прозрачными
стенами».
Конечно,
от нас не ускользнут некоторые логические противоречия. Перед нами,
скорее, поэтический образ, а не строго вербальное отраженье реальности.
Ибо кто скажет, что встречал нечто подобное в жизни? С достаточной
степенью точности еще можно вообразить «прозрачную
стену», за которой взору открывается несколько причудливый
мир. Вот, человек перед стеною глядит на тех, кто проходит меж
выставленных к продаже предметов. Но видит он мир неживого, ибо только
вещи служат сохраненью порядка, люди же – поток обменных
веществ, входящих в мир и утекающих прочь.
65.
Впрочем, многое здесь зависит от точки, а также способа смотрения. Ведь
возможно избрать к наблюденью не массу людей, но, скажем, двоих из
толпы. Тогда изменится и мир наблюдателя.
Допустим,
двое движутся по подобию лабиринта, где известны исходный и конечный
пункты маршрута – но нить, соединяющая их, еще не размотана
из клубка. В отдельных точках пути они внимательно осматривают
представленные предметы; некоторые вещи берут в руки, затем откладывают
либо, наоборот, погружают в сумки, где предметы теряют свои очертанья и
свойства.
Мир
утрачивает устойчивую жесткость структуры. Мир перемещается вместе с
двоими. Видимый смысл бытия представляется процессом обмена меж
взглядами и телодвижениями двоих, с одной стороны, и предметами их
вниманья, с другой. Одновременно подвижной становится и точка самого
наблюдателя. Он замечает теперь и другие плоскости, которые нельзя
назвать стенами, но которые, тем не менее, препятствуют его взгляду. За
пределами здания наблюдатель движется вдоль стены, поворачивает за
угол. Он видит, наконец, как женщина держит в своих руках блузку или же
юбку. Она и мужчина обмениваются улыбками, затем вместе с избранной
вещицей исчезает за темной завесой. Мужчина ждет, озираясь по сторонам.
Или, быть может, идет вместе с женщиной. Это не столь уж важно.
Любопытней
другое: мир, открытый наблюдателю, исчезает из поля его зрения
– то есть, мир исчезает вовсе. Прозрачная стена оказывается
обманом – ибо, на самом деле, является, скорее, гигантских
размеров окном. Назначение же стены – не открывать, а
скрывать.
66.
То есть, рассматривая выраженье «дом с прозрачными
стенами», мы должны прежде спросить: «А что может
оно означать на практике?»
Мы
обязаны затребовать и получить информацию на такие вопросы:
«Каковы
размеры самого
здания?»
«Где
оно находится? В городе или пустынном месте? Отдельно стоящее это
строение или же одна из квартир небоскреба?»
«Все
ли стены дома прозрачны?»
«Прозрачны
ли также его пол и потолок?»
«Нет
ли вблизи стен иных устройств, препятствующих наблюденью, как- то:
ширмы, жалюзи, занавески…»
67.
Мы должны знать все это.
Однако,
выраженье «на практике» вовсе не означает
стремленья узнать, как реально осуществить таковую конструкцию.
Точнее,
нас интересует не только это. В конце концов, опираясь на тексты книги,
мы были бы в состоянии воспроизвести некое подобие Сферы, ибо всякая
конструкция обладает внутренней логикой – достаточно
нескольких основополагающих элементов, чтобы выстроить целое.
Меня
беспокоит не недостаток подробностей в описании – но
совершенная неописуемость того, что происходит за прозрачной стеной на
самом деле.
68.
Я вижу все.
Некто
входит, чтобы сказать мне об измене. Но теперь достаточно всего
нескольких слов.
«Ты
ведь видел все сам», - говорит он.
69.
Я вижу двоих. Я вижу мужчину и женщину. Если в самом деле возможно
непостижимое.
Я
вижу женщину, совлекающую с себя одежды. Вижу ее лицо. Мужчина,
наоборот, одет и обращен в мою сторону спиной. Так что я не могу судить
о том, выполняет ли женщина конкретные указания или все оговорено
заранее – и мужчина молча следит. Я не знаю, доставляют ли
ему удовольствие действия женщины.
70.
Мне почти безразлично, что книга умалчивает и проходит мимо едва
намеченных ситуаций. Я не хочу знать подробностей – я домыслю
их сам, и
достаточно ими измучусь. Мне безразличны детали одежды и порядок, в
котором они теряют наполненность жизнью.
Выраженье
«на практике», скорее, означает желание знать, что
происходит с человеком, зренью которого нету преград. Изменен ли
коренным образом его взгляд на мир? Стал ли прозрачнее сам наблюдатель?
71.
Некто входит, распахнув стеклянную дверь, и говорит: «Ты
видел все сам. Но ты видел двумя глазами и из одной точки. Смеешь ли
утверждать ты, что охватил взглядом все?»
72.
Прозрачность стен, о которых толкуем мы, вовсе не является пределом
эволюции в принятом направлении. Ибо остаются препятствия в самом
человеке: острота его зрения, невозможность одновременно наблюдать из
различных точек.
Кроме
того, «на практике» ему препятствуют другие
объекты. Скажем, мебель у стен – прозрачна ли она? Прозрачны
ли вещи внутри шкафов? Не уклоняет ли твой взор тот, кто заслонил
спиной лицо женщины? А жажда узнать его принуждает довериться амальгаме.
Но
разве зеркала в кабинете не делают также непрозрачными стены извне?
73.
Увижу ли, в таком случае, я все, происходящее в комнате, в истинном
свете? Достаточным ли основанием служит прозрачность стен? Менее ли
важна точка, избранная для наблюденья?
Одно
ли и то же откроется за стеклом стен и потолка? Истолкую ли я
непротиворечиво одинаковые событья?
74.
«Значит, ты видел все… Видел ли ты
измену?»
И
я вынужден буду ответить: «Нет».
«Я
смотрел, - скажу. – Я видел лицо, несколько расстегнутых
пуговиц халата. Затем все заслонила спина мужчины. Он постоянно
находился между нею и мной».
«Разве
увиденного недостаточно?»
«Разве
я знаю, что последовало за тем, что я видел?»
75.
Я не хочу, как прежде, доверяться чужим мненьям. Я полагаю, что с
углубленьем познания ужесточаются и критерии достоверности. Чтобы знать
твердо, не должен ли я убедиться, что представленное моим глазам не
есть фальшивка? Если я допускаю возможность обмана в своих чувствах
– разве не может таким образом быть обмануто зренье?
76.Результат
наблюдений не достоверен, если ошибка в итоге превысила меру.
Если
даже я увижу и более чем распахнутый халат – не смею ли
предположить я, что действие за стеклом разыграно? Глядящий сквозь
стекло – разве я остаюсь невидим?
77.
А всякий знает, что пришедший следить, уже впустил внутрь измену.
И
если по этой причине все устроено здесь нарочно – этот дом из
стекла: не приняты ли здесь и иные правила? И, совершая бесстыдство, не
исполняет ли женщина неминуемый ритуал?
78.
«Зачем тогда ты хотел видеть? Разве недостаточно было моих
объяснений?»
Вот:
я вижу, я наблюдаю всякое действие – но не слышу никаких слов.
«Ты
хочешь, чтобы я пересказал разговор?»
79.
Но могу ли доверять я теперь словам?
Конечно, не на всякое слово
я полагался и прежде. Некто говорил – я сомневался. Сомненье,
однако, происходило из недоверия к фактам.
Теперь
мы обсуждаем то, чему свидетели оба. И вопрос таков: вправе ли я
доверять прежним значениям слов?
80.
Я отмечаю необратимые изменения в языке.
Мы
говорим об известных фактах, используем одинаковые слова. Но звуки их
повисают в воздухе.
Человек,
который прежде открывал мне невидимое, теперь затуманивает отчетливую
картину.
Я
не думаю, что это входит в его намерения. Тем не менее, мы оба
обсуждаем нюансы.
81.
Не связано ли это с переменою ситуации?
Если
спадает пелена с глаз, а стены обретают прозрачность, и мир исполняется
неутаенного – не изменяются ли и функции речи? Не
превращается ли язык из инструмента выявления сути в средство ее
сокрытия?
82.
Не исчезает ли обращенность к другому, вовне – уходя в тьмы
тайного монолога?
83.
Не теряет ли речь, прежде способная рано или поздно прийти к абсолютным
фразам, верным всегда и везде, - исключительных свойств завершать (а
значит, и вершить) историю?
84.
Если я могу длить теперь сколь угодно долго акт наблюденья –
сумею ли я отыскать слова, способные описать такую реальность?
85.
Утрата возможности толковать факт иначе как видимый, не позволяет
завершать событие в слове. Теперь мы обречены обсуждать вечно: а что
случилось?
Либо
отвергнуть навсегда желание знать.
86.
Такой вопрос уже ставится книгой, текст которой словно оборван на
полуслове. Автор прямо говорит: история требует завершенья –
однако, возможностей описать это нет. Нет средств.
В
конце концов, сюжет, представленный нам, на удивление прост: это
описанье событий, предшествующих убийству, и самого убийства. Читатель,
справедливо полагая, что за всяким преступлением следует наказание, сам
готов дописать, во всяком случае – домыслить ряд продолжений.
Однако, автор книги не оставляет и этой возможности. Ибо пускается в
рассуждения внеположенные сюжету. Безымянные герои задаются вопросами,
ответы на которые не способны прояснить ни обстоятельств, ни мотивов
самого преступления. Видимо, сознавая художественный провал, автор и
вовсе отрекается от решенья задачи – ибо в пределах любой из
описанных им историй завершения нет. Потому что для этого не существует
более слов.
87.
В самом деле, где начинается и оканчивается измена? Можно ли обнаружить
такие точки во времени и могу ли я присутствовать в них? Не происходят
ли необратимые изменения во мне самом?
Если
прежде я искал узнать правду, говорит ли это в пользу того, что я
способен выдержать ее откровенья?
Достоверно
ли, в конце концов, что я чаял истины?
88.
Стоит ли нам втроем обсуждать эту проблему? А нам есть что сказать друг
другу – ведь они также наблюдали за мной.
Но
- какими словами?
89.
Могли ли предвидеть мы заранее изменения в языке, изучив отличие речи
слепых и следивших за ними?
90.
Какой вопрос мы способны решить?
91.
Можем ли мы, по-прежнему, лгать друг другу?
92.
Если мы втроем глядим сквозь стекло на слепых, означает ли это, что
измена исчерпана?
В
противном случае – как приступить к разговору?
93.
Дано ли вообще пресечься чему-либо в мире?
94.
Нет никаких концов.
95.
Справедлива ли тогда такая апория:
в
бесконечной (конечной) Вселенной, где помещается (способно поместиться)
все же меньше большего (допустим, ягод клубники) и больше меньшего
(хвостиков тех же ягод) в объемном соизмерении при абсолютном равенстве
их числа (принимая единство ягоды с хвостиком как объекта) –
что перевесит в мироздании: добро или зло?
96.
Не исчезают ли таковые понятия в мире, где свет проницает предметы?
97.
Не смещены ли и критерии оценки измены?
Остается
ли измена изменой, не будучи ложью?
Отыщется ли средь призрачных
стен место обману?
99.
Справедливо ли разделение «лжи» и
«истины» в логике?
Не
обернулась ли моя жизнь, прежде абсолютно достоверная, как основанье
умозаключений и мышления вообще, – чем-то совершенно иным?
100.
Не есть ли теперь все, происходящее с нами, - не ложь и не правда, но
как бы театр, где зрители и актеры вдохновлены созерцаньем друг друга?
101.
(Мне вспоминается заметка о новаторе-режиссере, избегнувшем сцен с
обнаженной натурой в спектакле. Однако публике предлагалось всю
собственную одежду сдать в гардеробе. Сообщалось также о пристойном
поведении зрителей в зале).
102.
В таком случае, где начало и завершенье мистерии? В самом ли деле
исходным и конечным пунктами может стать вешалка? Не затянуты ли узлы
судьбы прежде принятого человеком решенья, сравнимого с ослепленьем
либо прозрением?
Возможен
ли и столь же внезапный уход от игры? Допустим ли вообще выход? Разве,
облачившись в гардеробе, человек становится прежним?
Не
вовлечен ли он, приняв хоть одно из условий, в капище игр однажды и
навсегда?
103.
«Не было еще случая, чтобы, пришед к нам, кто-либо желал
уйти», - читаем мы в книге.
104.
Самое время задаться вопросом: ради чего или вследствие чего устроено
это?
В
одном невозможно не согласиться с новатором-режиссером: у всех:
зрителей и актеров, - кто всерьез принял примышленные установленья,
стократ возрастает острота восприятия. Театр на таких условиях
– более чем театр.
105.
Но обретает ли зритель тем самым иные основанья доверия к бытию?
Свергает ли гнет прежних условностей, представ лицом к лицу жизни?
Или
состоянье его столь необычно, что зрелище вызревает в иную реальность,
вовсе инородную повседневности?
Но
поскольку зрителю представляют именно происходящее с ним изо дня в день
– значит, на свою собственную жизнь он взирает как на абсурд,
к которому нет возврата?
106.
Наступает ли в этом театре, усиленное же стократ очищенье, катарсис?
Как
будет воспринята здесь смерть на сцене? Станут ли всерьез оплакивать
гибель актеры?
Видимо,
да.
Но
что ощутят при этом нагие зрители в зале? Они уже отбросили жизнь
– от чего им еще очищаться?
107.
И если взойдет на
сцену один из них, чтоб
убить героиню - всерьез ли это? Не примут ли они и хрип смерти за
изысканную игру? Если, к тому же, ранее уже убит мальчик, невинная
жертва? Такова фабула. Перевесит ли счастье их обновленья слезу
ребенка? И если в пьесе сказано о неверности героини, и нет сомнений,
что зло накажут. Но не вполне ясно пока – каким образом? И,
предположим, этого и не дано знать, ибо спектакль новаторский, и актеры
не всегда уверены сами в ответной реплике. Если нагой мужчина удушает
одетую к балу героиню – продолжат ли актеры игру? Будет ли
принят во внимание факт измены? Насколько жестокое наказание ждет
убийцу? Приведут ли приговор в исполненье?
108.
И если вдруг огромное зеркало-занавес заслонит все, чем были поглощены,
- и вот, нагие и окровавленные, они глядят из темноты на
себя…
30
января
(В
моем знании, а значит, в моем мышлении и языке, по-прежнему, зияет
ощутимый пробел. И трудно сказать, будет ли он когда-либо восполнен).
109.
Так сложно найти начало. Или: сложно начать с начала и более не
возвращаться назад?
110.
Под началом я разумею не только определенный момент времени, но и
– не распознанную до сих пор первооснову собственной жизни.
Не
таится ли ошибка именно в убеждении, что начало существует? В пользу
такового свидетельствует неодолимая структура возвращенья к истокам.
Хотя это может говорить и о том, что я всего лишь хочу выяснить однажды
и навсегда: да или нет.
111.
Если я слепо ожидал у непрозрачной стены, если я заменил камень
стеклом, и все же не действовал – и вновь стою перед
зеркалом, в котором не различаю ничего, кроме себя – не
доказательство ли это того, что начало, к которому мне не дано
пробиться, укрыто во мне самом?
4 февраля
112.
Но если кто-то говорит об измене: «Я знаю, что ты
видел», - разве имеет он глаза на затылке? Или бесстрастно
взирает через плечо любви, свободный от нее: ведь неверны не ему, и в
трепетном зеркале разглядывает он – не себя?
(Ибо
если спиной ко мне обращена женщина, кто смеет утверждать, что измена
имеет отношенье ко мне?)
113.
Но разве, если очевидцев не существует – не выявит себя
самодостаточность факта? Разве измена за стеклянной стеной и стеною из
камня – не та же измена?
114.
Видимо, одна из ошибок состоит в том, что учтен лишь опыт неверности, о
которой узнает зрячий. Если бы мы рассматривали измену слепой женщины
слепому мужчине, нам следовало бы прибегнуть к совершенном иным
доказательствам.
115.
Теперь я понял, отчего начал предварять свои записи датами. Если я
всерьез намерен установить последние (первые) основанья измены, мне
следует описывать также состояния своего тела и духа – ибо,
изменяя мне именно теперь, а не прежде – изменяют не мне
прежнему, но тому, кто есть сейчас.
7 февраля
116.
Как описать любовь, которая не умерла? Что можно знать об измене, в
которую вовлечен?
117.
Считаю ли я себя неизменным настолько, чтоб некто имел возможность
всерьез изменить именно мне?
118.
Имеет ли, в самом деле, решающее значение изменение обстановки? Разве
не я волен, смотреть или не смотреть сквозь стекло?
10
февраля
119.
Располагая возможностью длительного, как описано в книге, наблюдения за
слепыми – не пришел бы я к выводу, что измена в среде слепых
невозможна? Кто в темноте мира не избавлен вещей, живых для него лишь в
касании, способен ли вообразить постоянство? Слова об обладаньи и верности станут всего
трагическим примышлением в краю иных тем.
14
февраля
120.
Значит, измена, что совершается за стеной, сокрыта во мне самом? Но
каким образом я узнаю об этом? Почему даже факты собственных наблюдений
я удостоверяю чужими словами?
121.
Разве не вопрошаю я: «А что было дальше?»
– ибо всегда было, есть и/или будет то, чего я не захотел, не
могу и/или буду не в состоянии видеть.
122.
Но, ставя таким образом вопрос – не ищу ли я и подтвержденья
увиденному? Ибо, говоря о дальнейшем, мы поручаемся за подлинность
предыдущего. Не поверяю ли я словами верность зрительных образов?
18 февраля
123.
Теперь я имею достаточно времени, чтобы обдумать и такую проблему: если
мои наблюденья удостоверены словами других людей – означает
ли это, что никаких иных доказательств уже не требуется? Видимо, нет.
Собственно, я понимаю это – ни собственный вопрос, ни
ожидаемый ответ не доверяю звуку – но пишу на бумаге. Да, мы
разделены теперь расстояньем и иными преградами – но, если
отбросить сиюминутную невозможность слышать друг друга, не обладает ли
слово письменное и гораздо большей устойчивостью? Может ли
запечатленное на бумаге служить основаньем?
20
февраля
124.
«Она закрыла глаза», - уточняет некто в ответном
письме.
21
февраля
125.
Отчего закрывают глаза при поцелуе? Почему, если один из двоих не
делает этого, он обнаруживает неискренность? Что можно разглядеть через
плечо в зеркале? Лицо похоти, которое обещало иное…
126.
Как можно доверять исчислюющим тайну глазам?
Как
отнестись к словам подобного человека?
127.
Могу ли я, наблюдая слепых, вникнуть сути их отношений? Нет –
покуда не лишусь света и зеркала.
Значит,
и то, что свершалось в комнате, не одинаково для мужчины и женщины?
128.
В таком случае, имеет ли он право сказать: «Она
изменила»?
Изменила
ли она мне?
После
стольких недель одинокого размышленья прибавилось ли во мне уверенности
и знанья?
За
каменною стеной я по-прежнему полагаюсь на чужие слова.
22 февраля
129.
Настал черед рассмотреть разницу выражений – «Она
изменила» и «Она изменилась».
Что
видим мы? В обоих случаях – фразы, сказанные человеком не о
себе. При всей фонетической близости – семантика их прямо
противоположна: изменила – не изменилась. Но в любом случае,
измена – это не то, что произошло с нею. С нею и в ней
возможно лишь измененье. Измена – не действие.
«Что
же сделала она?»
«Закрыла
глаза».
130.
Отчего закрывают глаза при поцелуе?
Как
вышло, что я не задавался этим вопросом прежде?
Почему
любящие уподобляются слепым?
131.
Не есть ли поцелуй – невербальное выражение тяги к дыханью,
душе другого, во время которого устранены препятствия видимостей
истинному общению двух естеств?
А
поскольку проявление сущности не может быть ложью, значит, не является
и изменой. Не действия совершаются тобой – но состоянья,
которым подвластен ты, как невольник.
24
февраля
132.
Но вернемся к словам: «Женщина
изменилась…» Грамматически они идентичны
конструкции: «Веревка затянулась»…
Слепой,
что ощупывает в страхе шею, обнаружит и инородный предмет. Веревка не
затянется без посторонних усилий. Веревка, удушающая сама по себе
– есть признанье неведения губящих тебя извне сил.
133.
Может ли женщина с закрытыми глазами предвидеть измену? Присутствует ли
она вообще в это время в мире, где критерии очевидности –
осязанье и зренье?
Книга
настаивает: мир слепых – не тот же, что наш. К нему не
применимы наши оценки.
28 февраля
134.
Я не смею говорить о том, что кто-то изменил мне.
Ни
тот, кому изменили, ни та, что обвинена в измене, не могут подтвердить
этого.
135.
Опираясь на законы грамматики, я конструирую фразу: «Если это
(измена) случилось не с ней, и, следовательно, она возвращается ко мне
неизменной…»
Я
конструирую фразу, в которой допускаю логические противоречия,
поскольку понимаю: фраза неверна, ибо неосуществима. Поэтому я,
по-прежнему, стараюсь выяснить, что следует принимать за истину об
измене.
1 марта
136.
Если я все еще не отступился, я должен проникнуть туда, где мне
представят дополнительные сведения.
3
марта
137.
Утверждение, что только мертвый не изменит тебе, также нельзя считать
безупречным. В нем верно лишь то, что мертвый навсегда теряет
способность к изменению. Он не может более огорчить поступком тебя. Но
твое собственное представленье о нем еще подвержено перемене
– ибо и после смерти могут открыться неизвестные ранее
обстоятельства.
138.
Что ж, я готов признать (и признаться), что это совершено мною. Однако
я никогда не соглашусь, чтобы веревка затянулась. И в абсолютной тьме я
пребуду всесилен.
5 марта
139.
Здесь следует учесть и то, что любовь, измена ли, ложь существуют не в
каждом отдельно – но лишь между двоими. Без всяких сомнений
это справедливо, видимо, для случаев истинного общенья. Поскольку
любящий не осуществляет любви или измены, но ими охвачен.
Следовательно, пребывая внутри, он не может знать истины. Но когда из
двоих один в забытьи закрывает глаза, другой же наблюдает –
именно этот другой и выходит за предел – в точку, откуда дано
обозреть явление в целом. К тому же, не только зрение, но и осязанье
его служат теперь объективации фактов.
140.
Значит, и истиной об измене, если возможно к ней приступить сколь
угодно близко, обладает тот, с кем измена была совершена.
8 марта
141.
Каким образом это становится известно ему?
Откуда
некто узнает, что женщина прежде была верна?
Я
думаю, это вырывается из ее уст.
В
таком случае: говорила она по доброй воле или по принужденью?
142.
Мы обсуждаем меж собой и эти нюансы. Мы добровольно чередуем вопросы и
поясненья.
Что
считать принуждением?
О
чем свидетельствуют не видящие мира глаза?
143.
Утомившись словами, мы наблюдаем вдвоем за слепыми.
Я
задаюсь вопросом: а можно ли вообще узнать о верности либо измене
– о чем угодно, лишь наблюдая и оценивая поступки?
11 марта
144.
Все же я убеждаюсь в необходимости слов.
И
сразу обнаруживаю противоречие: совершая измену, двое рассуждают о
верности.
Я
нахожу объясненье сему лишь в том, что говорящие толкуют о разных
предметах. Женщина не знает ничего об измене. Но в нее посвящен тот,
кто, глядя через плечо, прочитывает в зеркале: это не любовь, ее нет.
Значит,
одновременность несовместимых высказываний и действий возможна. Они
правомочны в равной степени и не отрицают друг друга.
145.
Во всяком случае, я имею все основания ввести противоречие как
тождественный логике элемент в мироустроенье слепых. Ибо закрытые глаза
женщины - не есть ли добровольная слепота? Не уподоблена ли послушникам
тьмы, что ищут войти в мир слепых, но лишь повязали, и вольны сорвать,
с глаз повязку?
Не
равны ли законы тьмы и амальгамы? Ибо человек, окруженный лишь
зеркалами, глядящийся в самого себя – разве не так же слеп?..
12
марта
146.
Не допускаю ли я, однако, грубой ошибки в своих построеньях?
Ведь
слепым оставлены слух и речь. А мы понимаем, что измена не бессловесна.
Разве происходящее за стеклом не предполагает исполненья команд:
«Сними» или «Подожди, я сниму
сам…» – и осуществимо только при
адекватном восприятии этих слов, а значит, - предрасположенности к
поступку?
147.
И если быть логичным (алогичным) до конца, не следует ли сказать:
надобно лишиться не только зренья – но всех прочих чувств
– чтобы измена стала поистине невозможна.
148.
Но будет ли тогда возможна любовь?
14 марта
149.
Я полагаю необходимым уточнить, что, вопреки общепринятым мненьям,
измена как раз и возможна лишь мертвому, ибо образ его облечен всей
совокупностью свойств – и измена становится, пусть
теоретически, возможной, чего не скажешь с уверенностью об изменчивом
ежесекундно живом человеке.
150.
Впрочем, всевозможные ограниченья и предосторожности имеют смысл только
в случае, если когда-нибудь наступает конец.
Сомнение
без конца – это даже и не сомнение.
16
марта
151.
Если меня не любят, все остальное мне, в конце концов, безразлично. Без
любви всякое завоеванье и умножение сфер доступного и подвластного мне
– зачем?..
17 марта
152.
Можно быть и слепым.
18 марта
153.
Вопрос о ценностях фундаментальнее вопроса о достоверности. Важно не
знание чего-либо, но само сие что-то.
Поэтому
сразу очевидна бессмысленность фразы: «Я знаю, что я
люблю».
Я
люблю или нет.
Слова
о знании здесь излишни. Ибо как могу я в одиночестве знать о том, что
исполняется истины меж двоих?
154.
В здании суда такое высказывание, сделанное одной из сторон, даже не
воспримут всерьез. Но не возразят словам медика о том, что бездыханный
человек мертв. И также несомненно будет для них, что всякое
преступление влечет за собой наказание.
(без даты)
155.
Однако в комнате из зеркал мы не можем быть уверены даже в этом. Более
того, мы станем утверждать, что как минимум один из нас страшной кары
избегнет.
156.
А разве второй не смеет принять все, происходящее с ним, за ошибку
собственных чувств?
157.
Даже взяв шприц, не скажет ли он себе, что все дальнейшее будет лишь
наркотическим сном?
158.
Но если это и так, и если наркоз в самом деле лишает меня сознанья, то
по-настоящему с этого мгновенья я уже не говорю и не мыслю. Я не могу
всерьез предположить, что в данный момент вижу сон. Человек, говорящий
во сне: «Я вижу сон» – даже если при этом
он говорит внятно, прав не более чем, если бы он сказал во сне:
«Идет дождь», - и дождь шел бы на самом деле. Даже
если его сон действительно связан с шумом дождя.
И
только тот, кто, как прежде, глядит через плечо в зеркало…
Читайте также:
ИГОРЬ ВЕГЕРЯ. ПРОЗА.
ПРОЕКТ ДЕМЕТРИУС.