
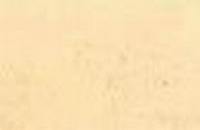



|
 |
|
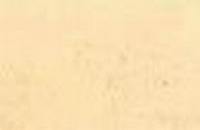 |
|
 |
|
|
Игорь
Вегеря © И.И. Вегеря, 2009 Первая
публикация текста в
журнале "Топос". Одну из последних глав своего
романа «Вообрази себе картину» Джозеф Хеллер
начинает так: «В
То, что ему о ней рассказали,
выглядело настолько простым, что Аристотель разозлился - как же он
первым до этого не додумался? Да будет свет, и стал свет. Чего уж
проще? Вот и все, причем в горстке стихов.
В начале сотворил Бог небо и землю.
Почему он сам так не сказал?
Насколько это яснее, чем Неподвижный Движитель, или Немыслящий
Мыслитель, или Первый Неподвижный Движитель
его собственной путаной космологии. И насколько короче. Приходится отдать должное этим
евреям, кем бы они ни были, негодуя на них, думал Аристотель. Как долго
удастся сохранить
все это в тайне от учеников?»[1].
Конечно, это всего лишь роман. К
тому же, достаточно причудливый, чтобы считать приведенные выше фразы
точкой зрения самого автора. Однако,
схожее мнение относительно Аристотеля и теории
сотворения мира существует. И вполне вероятно, оно не является
исключительно выдумкой нового времени, но возникло еще в глубокой
древности. Во всяком случае, уже Деметрий
Фалерский, инициатор, руководитель и редактор первого
перевода священных книг иудеев на греческий проявлял интерес
не только к законодательству иудеев и учению об управлении народом и
государством, но также - к иудейской теории сотворения мира. В своих
«Изречениях», обращаясь, по-видимому, к Птолемею
II Филадельфу, он говорит, что «нет изречения, как
вышло, что дни первые произошли, лучшего, чем эти - но не
умело ты вопрошаешь об этом». (Речения
Экклезиаста, 7:10). Не являясь страстным поклонником
Аристотеля (и, напротив, с огромным интересом относясь к личности Деметрия
Фалерского), я, тем не менее,
хотел бы в данном случае вступится за древнего грека перед американцем
нового времени. Едва ли Аристотель, случись ему
получить достаточно подробные сведения об иудейской теории сотворения
мира, мог увидеть в ней что-либо новое для себя и, тем более,
восхититься в столь превосходной степени. Поскольку цель основателя Ликея
состояла вовсе не в сотворении ясного (тем более - самого ясного),
выразительного и краткого мифа – но в гораздо более
«умелом» и глубоком вопрошании, относящимся не
столько к вопросам что и в какой
последовательности образовывалось при зарождении мироздания (вопрос
первоначал и первоэлементов достаточно подробно и квалифицировано
рассматривался греческой философией задолго до Аристотеля), но - почему вообще стало возможно
возникновение, и что явилось первым толчком в грядущем затем
неостановимом ряду рождений, метаморфоз и смертей. Собственно, уже ознакомившись с
иудейскими книгами, тем же «аристотелевским»
вопросом: «отчего, что существует - имеет то гибель, и как то
сотворено было, что сотворено - если нет ничего нового под
солнцем» (Речения
Экклезиаста, 1:9), - задается и
сам Деметрий (редактор перевода иудейского Закона на
греческий), один из учеников и последователей Аристотеля, от которого,
по мысли Хеллера, иудейский миф родоначальнику школы перипатетиков
следовало скрывать. Это, и впрямь, очень ярко и просто:
«В
начале сотворил Бог небо и землю»… Но столь ли безоснователен и
немудрен был акт творенья на самом деле? Так ли благ и всесилен в
действительности Творец, которого в самом начале иудейской легенды мы
застаем уже мечущимся над бездной, уже вброшенным в бытие, быть может,
помимо воли, как происходит это и с человеком-ребенком, вылепленным Им
по собственному образу и подобию. Что предшествует бездне и полету во
тьме? В иудейской мифологии это попросту не рассматривается; Книга
исходит из того, что человеку нет нужды вопрошать о неизъяснимом, ему
достаточно более наглядных (и оттого простых) объяснений своих удач и
несчастий. Сверх того, подобные вопросы, скорее, вредны, нежели полезны
земному обитателю. Так кажется. Гораздо более важными представляются
вопросы добра и зла, покорности и разумения того, что ждут от тебя
небеса. Ибо всецело от Создателя зависит счастие и судьба человека. Но на самом ли деле, всеблаг и
всесилен Творец? Для понимания этого чрезвычайно
важен другой иудейский миф, которому уж точно позавидовал не один
мыслитель древнего и нового времени, и где, на первый взгляд, дается
определенно положительный ответ на вопрос о всесилии и всеблагости Отца. Я лишь коротко напомню сюжет этой
книги (известной большинству читателей), сводящийся к тому, что, дабы
испытать искренность благочестия Иова, Творец посылает ему целую череду
испытаний, отнимая вначале его многочисленное имущество, затем
– всех детей Иова, и, наконец, насылая лютую проказу на
самого праведника. После этого Иов проклинает день своего появленья на
свет и вступает в спор с тремя своими друзьями, а затем - и с
самим Вседержителем, от которого требует объяснения своих внезапных
несчастий. Собственно, этот спор и составляет основное содержание
книги. Однако, ни трое друзей прокаженного, ни сам Творец не могут дать
вразумительного ответа Иову. В итоге праведник, устрашенный речами и
видом Создателя, все же заявляет о своем формальном раскаянии. После
этого Господь исцеляет Иова от телесных страданий, возвращает ему
вдвойне утерянное имущество, а также дает долголетие и позволяет родить
семерых сыновей и троих дочерей, равно числу тех, что были утрачены
Иовом ранее при попустительстве того же Творца[2].
Почему, однако, мы не слышим слов
благодарности в адрес Всеблагого, возместившего, казалось бы, все
утраты Иова? Почему книга оставляет нас в разочаровании и недоумении?
Отчего безграничная, на первый взгляд, щедрость
Всевышнего на поверку оказывается столь меркантильной? Разве не во
власти Его пристыдить Сатану, соблазнившего испытать благочестие
праведника, и сказать: теперь ты видишь, что был не прав –
поэтому я возвращаю Иову все имущество и поднимаю из гробов безвинно
убиенных детей? Почему мы не слышим этих, ожидаемых каждым, слов[3]? Но даже если мы готовы смириться,
принимая от Него как доброе, так и злое – в чем
истинная причина того, что благодеяния и наказанья Творца не являются
абсолютно симметричными и равноценными? Отчего дары Всемогущего
многократно превышают Его же кары? Вот, говорит Он: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов
наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и
творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди
Мои» (Втор.,
5: 9-10). Почему плата любящим гораздо выше,
нежели наказание ненавидящим? Не поступает ли в данном случае
Вседержитель подобно законодателю, сознающему, что практическое
разбирательство вовсе не застраховано от судебных ошибок. Вследствие
чего и жестокость наказания не может быть беспредельной. (Впрочем, и
милость любящим до тысячи родов также не более чем декларация, призыв и
даже мольба Творца о любви. Ибо разве возможно, дабы на протяженье не
тысячи даже, но хотя бы и ста, и десяти, и трех даже поколений, не
случилось в одном роду согрешивших против Отца? И каковым будет
воздаяние Всевышнего рабам своим, в роду которых были и безмерно
любящие, и ненавидящие Его?) Во-вторых, почему за вину отцов
Господь наказывает детей – а не наоборот, что было бы гораздо
логичней и/или, во всяком случае, милосердней? Конечно, я готов
согласиться, что человеческое рассужденье вовсе не обязательно
соответствует промыслу Творца. Но не совершается ли именно здесь некий
причинно-следственный излом, корень которого лежит в том, что арсенал
Всевышнего попросту не содержит инструмента, именуемого
«власть над временем», под которой в данном случае
мы разумеем, прежде всего, власть над минувшим? Ибо власть над будущим
– только одна сторона монеты, в подлинности которой не
убедиться, покуда не видно чекана на обороте. Что имеет ответить Создатель на
такие или подобные им вопросы? Что говорит, чем грозит и чем
похваляется Творец перед Иовом? Он напоминает о сотворении и власти
своей над землей и морем, градом и дождем, молниями и звездами,
восхваляет сотворенных Им же животных, первенство средь которых отдает
бегемоту и левиафану. Но ни слова при этом не говорит о власти над
временем. А разве может быть всеблагим тот, кто не имеет наиважнейшего
властного атрибута? Разве всеблагим следует называть
того, кто казнит – но не воскрешает? Безмерно ли милостивым сочтем мы
казнящего за чужую провинность, то есть попросту мстителя? Всесилен ли, наконец, тот, кто не в
силах совладать со своим же творением? Ибо наказать –
означает расписаться в собственном бессилии, в неспособности управлять
иными способами и мерами. Для чего, вообще Творец снисходит
до человека: заключает юридически обязывающий договор, дает заповеди,
следит за каждым шагом и помыслом смертного? «Что такое человек, что
Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое?» -
вопрошает Иов (Иов, 7:17)[4].
Разве недостаточно могущества Вседержителя, чтобы принудить человека
поступать именно таким образом, как предписывают то заповеди? Не
рациональнее ли предупредить уклонение от Закона, запретив человеку
быть непослушным, нежели карать за проступки отцов их отпрысков в
нескольких поколениях? Для чего оставляет
Создатель право выбора за человеком, эту иллюзию свободы и
независимости? Какова истинная причина того, что змею дозволяется
искусить человека, дабы наделить тварь бренную божественным даром
различенья добра и зла? Является ли то лишь досадным упущением, ошибкой
Творца? По-видимому, нет. Ибо в таком
случае нам следовало бы отказать Всевышнему не только во всемогуществе,
но и в обычных здравомыслии и осторожности. Но если данный
«просчет» был вполне осознан - необходимо,
прежде всего, понять подлинный мотив этого поступка. И таковое
объяснение мы обнаруживаем уже в самых первых стихах Книги Бытия, где
заявляется сокровенная цель Создателя, состоящая в упорядочении хаоса, в
том, дабы из неприглядного и фрагментарного сотворить светлое и
приятное для глаз. А коли случай представился и цель ясна - все это
СДЕЛАТЬ ХОРОШО! «(1)
В начале сотворил Бог небо и землю. (2) Земля же была безвидна и пуста,
и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. (3) И сказал Бог: да
будет свет. И стал свет. (4) И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил
Бог свет от тьмы. (5) И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был
вечер, и было утро: день один. (6) И сказал Бог: да будет твердь
посреди воды, и да отделяет она воду от воды. (7) И создал Бог твердь,
и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И
стало так. (8) И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро:
день второй. (9) И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в
одно место, и да явится суша. И стало так. (10) И назвал Бог сушу
землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это
хорошо» (Быт.,1:1-10). Успешному деянию, однако, всегда
предшествует замысел. Прежде, чем нечто совершить, требуется помыслить. В аристотелевской космогонии
Бог-Творец - Неподвижный
Перводвижетель в его терминологии – это и есть чистый Ум. Причем – ум теоретический, чья мысль
направлена не на что-либо внешнее, но исключительно на себя самое,
полагающая начало и цель собственного мышления в себе самом. Отчего же тогда выходит Создатель
из собственной неподвижности, давая начальный толчок тому, дабы явилось
нечто внешнее и постороннее Ему - мир? Объяснение, по-видимому, следует
искать в том, что именно в процессе своего теоретического
пред-умствования, Творец замысливается о необходимости выработки
критерия истинности для собственного мышления. Насколько полно и
гармонично мыслю Я то, что мыслю? Насколько хороша эта мысль? Возможно,
это и подвигает Создателя к сотворению некоей вне
положенности, которая являлась бы, с одной стороны, воплощением Его
собственного мышления, не будучи при этом в полной мере Им же самим -
дабы, вглядевшись в сотворенное, Господь мог распознать, в самом ли деле не ущербна и хороша Его мысль. К
тому же, в планы Всемогущего, вероятно, входило и намерение получить
объективное (в той степени, в которой это возможно) подтверждение
собственным выводам именно от этой вне
положенной действительности. Во всяком случае, именно такой ход
умствования Неподвижного Перводвижетеля логически предполагает
необходимость сотворения ангелов, а позже – и человека. Таким образом, уже в первоначальной
мысли Творца присутствует, по-видимому, не только различение хорошего и
плохого, добра и зла, но также - некоторая аналитическая неуверенность,
сомнение в том, что мысль Его во всех своих аспектах есть хороша. Означает ли это, что, и причиной
начала движения, толчком к возникновению мироздания послужила
внутренняя неуверенность Создателя, сомнение в собственной правоте,
изначальная неустойчивость и неподтвержденность мышления как такового,
некая неравновесность, происходящая из поступательного векторного
движения мысли в направлении исключительно «от»
исходной априорной посылки в ущерб всем иным возможностям мыслительного
развития? Именно - неуравновешенность и ущербность… Свидетельствует ли, однако, сие о
некоторой несамодостаточности Творца? Скорее, наоборот – о
Его черезмерной, избыточной самодостаточности (если допустимо вообще
вести речь о каких-либо градациях цельного и самодовлеющего). Эта
черезмерность и избыточность, конечно, вольна разрешиться и в том, что
Создатель имеет полное право напрочь отбросить собственные фантазии (и
даже саму исходную посылку мышления), начав мыслить совершенно в ином
направлении. Он может вновь и вновь отметать собственные мыслительные
наработки или, наоборот, продумывать все их одновременно - создавая тем
самым иллюзию полноты и равновесности… Но чем руководствуется Творец мысля
то или это; или мысля все одновременно - но, предпочтя, тем не менее,
это все чему-либо одному или же не-мышлению (как акту сознания, предопределяющему
первенство несуществования над бытием?)? Задается ли
Создатель этим вопросом? Отчего сейчас Я мыслю то, а позже –
мыслю иное? И если я отбрасываю некую мысль – означает ли
это, что она была недостаточно хороша по исходной посылке или не вполне
обстоятельно и добротно продумана? Или же, напротив - все, что Я мыслю
(и если даже мыслю Я все одновременно) есть в равной степени
замечательно? Зачем, в таком случае, мыслить иное, если оно нисколько
не лучше того, что помыслено прежде? Не лучше ли сосредоточиться на
продумывании одной-единственной мысли? Не лучше или хуже чего? Той
другой возможности, иного направления, которые остаются непродуманы
(или продуманы недостаточно) на все бесконечное время, что отдано Мной
моим прежним раздумьям? В таком случае, хороша ли сама по
себе способность мыслить, допускающая существование мыслей, продуманных
недостаточно глубоко или даже поверхностно? И, следовательно, поскольку
Я как Чистый Ум самодостаточен и не испытываю потребности ни в чем
ином, кроме как мыслить о Себе, – хорош ли Я сам? Не лучше
ли, естественней и честнее бездумное созерцание хаоса и игры
вероятностей – которые, выходит, также заключены во Мне и
есть неотъемлемая часть Всецелого? Здесь и оканчивается, по-видимому,
чрезмерная и вообще всякая самодостаточность Творца, который не может
твердо и определенно ответить на прямо поставленный самим же собой
вопрос: кто есть Я? Хорош Я или плох? Ответа нет. Как нет ответа и на
вопрос, хороша или дурна способность мыслить. Ответ, просто-напросто,
не имеет значенья. Поскольку вопрошающий о себе - и есть мышление о
себе. Ответ: безразлично – равно хорошо и равно безобразно;
этот ответ в равной степени точен и лишен смысла - покуда нет ничего
вне вопроса, вне мышления, покуда нет ничего вне. Но вопрос остается. Быть может
– вызванный сомнением от собственной полноты. Быть может
– самолюбованием, поскольку нет никакого иного предмета
любви, кроме Себя. А чтобы взглянуть на Себя со стороны - любуясь или
разрешая сомненья – требуется перейти от мышленья к деянию:
материализовать свои мысли - то есть, сотворить нечто по образу и
подобию Своему. По-видимому, человек (хоть он,
блин, и вышел комом) не удостоился чести стать самой ранней попыткой на
этом пути. Во всяком, случае, нам известно об ангелах, которые первыми
с безропотной готовностью свидетельствовали, что образ мышленья Творца
(а следовательно, и сам Творец) весьма и весьма хороши[5].
Первоначально человек задумывался, всего вернее, как тварь с весьма
ограниченными утилитарными функциями, главные из которых состояли в возделывании Едемского
сада (Быт., 2:15),
а также наречении именами животных и птиц, вылепленных, как и человек,
из праха земного (Быт., 2:19).
Роль человека переосмысливается и становится куда более значимой в
связи лишь с одним обстоятельством – в свите Создателя
зарождаются сомнения в том, что миропорядок, установленный
Вседержителем, достоин восхищения и незыблем. Иными словами, противник
Творца позволяет себе усомниться в Его всеблагости и могуществе. Бунт вырастает почти из случайности
(возможно – хорошо подготовленной). Совершенно неожиданно
выясняется, что змею есть что предложить
человеку в дополнение (или взамен) к тому безмятежному болтанию в
Едемском саду, которому надлежало составить счастие человеков. Тем
самым, противником и любимцем Создателя было наглядно
продемонстрировано, что мир сотворенный Всемогущим
недостаточно хорош (или хорош лишь отчасти), ибо существует множество
иных возможностей, способных дать радость и составить счастье его
творений. А поскольку сладостный плод познанья добра и зла указан
человеку вопреки запрету Вседержителя – змей также ставит под
сомнение и всеблагость Творца, укрывшего от человека иные пути обретения счастья. Возникшая ситуация тихого
(ползучего и шипящего) бунта, пожалуй, впервые ставит Создателя лицом к проблеме ограниченности
собственного могущества. Во всяком случае, следствием непослушания
Адама и Евы должно бы явиться ясное понимание со стороны Всемогущего,
что самое простое и эффективное решение, а именно – возврат к
точке, предшествующей возникновению проблемы, – попросту
невозможно. Прежде всего, пересмотр фундаментальных принципов
преобразования хаоса, воплощенных в первых экспериментальных образцах,
означал бы публичное признание поражения пред восставшими против Отца тварями. Но, что гораздо
важнее, отказ в доверии собственным мыслительным построениям служил бы
доказательством несостоятельности Творца перед Самим Собой –
тем самым подтверждая смутные сомнения той счастливой поры, когда Он
еще не был Создателем, но
только Неподвижным
Перводвижетелем, Чистым Разумом, чья мысль устремлена исключительно на
собственное мышление, а сомнение являло объективно необходимое (как
антитеза, служащая проверке и доказательству тезиса) условие
преодоления хаоса и сотворения мироздания. Еще более неожиданным, однако,
представляется то, что отрицание какой-либо части собственного
мыслительного процесса попросту невозможно физически. (Ведь даже если ты публично отрекаешься от
собственных идей, говоря, что центром мироздания является земля, и
искренне пытаешься убедить себя, что обитаешь на плоской недвижимой
тверди, и вот теперь заново начнешь продумывать всю космогонию из этого
безупречно подтвержденного практикой пункта – прежнее знание
того, что «все-таки она вертится» никуда не
уходит…)
Ибо желание пропустить некоторую точку собственного потока мышления,
изъять ее из действительности для существа (если здесь уместно слово
«существо»), присутствие которого подтверждено
единственно процессом мышления, направленным исключительно на
собственное умствование (да, пожалуй, и для любого другого существа,
обладающего способностью мыслить), означает ни что иное как признание
собственного небытия, философски выстроенное самоубийство, которое с
известной степенью приближения возможно описать формулой: «Я
не мыслю – следовательно, Я не существую». А живому остается только двигаться
вперед и творить дальше. О помысленном и содеянном недостаточно хорошо,
об ошибках возможно лишь сожалеть и раскаиваться – отменить
их нельзя. Впрочем, для Творца (в отличие от сотворенного Им) сожаление
и раскаяние контрпродуктивно, да и едва ли желанно - ибо является
признаком профессионального несоответствия. Путь Создателя –
резать и латать по живому. Вдруг выясняется, что мысль
необратима, как само время. Или, напротив, - время необратимо, как сама
мысль. Ибо время – то, что возникает даже не в самый первый
момент начала сотворения мира
(«В начале сотворения
Всесильным неба и земли, когда земля была пуста и нестройна, и тьма над
бездною, а дух Всесильного парил над водою, сказал Всесильный:
«да будет свет» и стал свет», - читают
первые строки Закона евреи – см. по
изданию «Сончино»: Быт., 1:1-4)
– но в самый первый момент начала мышления еще Неподвижного Перводвижетеля,
обращенного единственно на собственное умствование. А
поскольку мышление о мышлении - исключительно ментальный процесс без участия материи,
следовательно, и мышление Творца – есть чистое время; не
какой-то определенный его отрезок как день или ночь, год или столетие
– но время как всеобщая мера, как свидетель и судия
всему… Мышление о мышлении, умственное
созерцание – это уже процесс, мерилом которого
(«мерою всякого движения и покоя»), как говорил Стратон, последователь и оппонент
Аристотеля в одном лице, является время –
«поскольку оно равновелико всему движущемуся, когда оно
движется, и всему неподвижному, когда оно неподвижно».
Поэтому «все происходящее происходит во времени»[6]. Согласно теогонии орфиков именно
Хронос (Время) принимается «за единое начало всех
вещей»[7], которое порождает «влажный
Эфир» (влагу и воздух),
«безграничный Хаос» (пространство?)
и «мглистый Эреб [Мрак]»[8].
В гораздо более позднее время (хронологически совпадающее с годами
жизни Аристотеля) эпитафия на могиле одного из воинов, погибших при
Херонее[9],
начиналась такими словами: «Время, всевидящий бог, все дела
наблюдающий смертных…»[10].
А ученик Аристотеля и Феофраста, организатор и руководитель перевода
Закона иудеев на греческий Деметрий
Фалерский писал:
«…время, которое справедливо, оценивает разум
мудреца» (Речения
Экклезиаста, 8:5). Поэтому едва
ли Аристотель в столь превосходной форме, как живописует Хеллер, мог
восхититься теорией сотворения мира, где Хронос-Время является не более
чем шкалой, служащей удобству описания деяний Творца. «В
начале сотворил Бог небо и землю… И был вечер, и было утро:
день один» (Быт.,
1:1-5). Но кем бы ни являлись эти евреи, столь
пренебрегавшие Хроносом, они отдавали должное и противнику Создателя,
который, будучи, по их свидетельству, «хитрее всех зверей
полевых» (Быт., 3:1), первым уразумел бессилие Творца
перед временем. Если время изначально возникает и
существует как мышление Перводвижетеля о своем же мышлении –
выходит, время – это и есть Творец. (Значит, Всесильный
является мышлением и временем мышления одновременно - представляя Собою
единство, где конкретные капли и волны мысли порождают необратимую реку
времени). А коли Он всемогущ – не существует никакой иной
силы, способной повелевать Им, то есть – временем.
Следовательно, Создатель не властен над собой, немощен и слаб перед
Хроносом. И Змей – первый, кто расставляет эту логическую
ловушку бессильному всемогуществу Творца. Он первым принуждает
Всеблагого яростно гневаться на созданный Им «хорошо
весьма» мир. В событийном, временнОм плане это самобичевание
Всемогущего зафиксировано как грехопадение в Едемском саду, которое на
самом деле есть ни что иное как первое (известное нам) искушение змеем
Создателя. Человек, присутствующий при этом, - только разменная монета,
глиняная фигурка, для легкости движений и гибкости членов наполненная
«влажным эфиром» упорядоченного Хаоса –
дыханьем Творца, вдунутым в «мглистый Эреб [Мрак]»
внутренностей Адама. Змей апеллирует здесь к гордыне Всесильного
– гипертрофированному чувству собственного достоинства
Создателя, к гордыне, которая применительно ко всякой твари полагается
тягчайшим из согрешений. (Ибо разрастается в тварном до соперничества
со Всемогущим; но самоценность и исключительность, на которые
претендует тварь – атрибуты, присущие единственно Творцу,
только в Нем, в силу его могущества и самодостаточности, гордость
реализуется в исключительной форме гордыни). Во всяком случае, логика
действий змея именно такова. Смотри, вот слабое творение Твое восстает
на могущество Твое, желая, как боги, иметь различенье добра и зла.
Заметь, это не Ты, но я открываю им сие знание. Мы оба, помысленные и
сотворенные Тобой, восстаем против Родителя. По сути, своими действиями змей
намеревается выразить достаточно нехитрую мысль: Создатель, Ты чересчур
рано успокоился; вот, Ты ходишь по саду и обо всем, что ни увидишь,
говоришь «весьма хорошо». Не оттого ли –
что никто, помимо богов, не имеет различения хорошего и плохого, добра
и зла? Ты прогуливаешь по Саду благостно «во время прохлады
дня» - тогда как должен трудиться, доказывая без устали, что
мир, созданный Тобою, и вправду хорош. Конечно, Творец не может принять
таких аргументов. Гордыня-гордость не позволяет Ему признать
необходимость подтверждать ежечасно могущество и благость свои. Он
гневается самым естественным и неприглядным образом. Он осуждает обоих:
человека и змея. Господь изгоняет мужчину и женщину из Едемского сада
на проклятую Им землю… Спустя какое-то время Создатель
понимает, что погорячился. Разве структуре, решающей предпосылкой
возникновенья которой послужила некоторая неопределенность мышления,
возможно воплотиться каким-либо иным образом, нежели в этот
перекошенный и неуравновешенный мир, в реальности (а тем паче, в
благолепии) которого требуется ежечасно уверять самих же в нем
обитающих тварей, полагающих время от времени, что вся окружающая их
действительность - не более, чем сон, к тому же еще и дурной? В ином
Создателя пытается убеждать только горстка ангелов, весьма напуганных
инцидентом со змеем, и, следовательно, лишенных возможности
свидетельствовать объективно. И Творец снисходит до человека. Он
является к нему Сам. Во всяком случае, так передают евреи, которым приходится отдавать должное, кем бы
они ни были. По меньшей мере, они заслуживают уважения - поскольку
достаточно точно описывают растерянность Творца после изгнания человека
из Сада. Создатель попросту оказывается забыт. Мир, воплощенный в
материале, предстает вовсе не таковым, каким в изначальной своей
неподвижности замысливал зреть Перводвижетель. Конечно, отдельные
элементы мироздания весьма привлекательны, и даже сыны Божьи
прельщались красотой дочерей человеческих, которые рождали им исполинов
(Быт.,
6:2-4).
В остальном же человек как-то по-своему обустраивался на проклятой
Богом земле, развивая при этом некоторые, не продуманные до конца,
тупиковые мысли Всевышнего - но открыто пренебрегая общим прекрасным
замыслом. За частные искаженья проекта и
явленное неуважение Создатель, как водится, мстит. Вначале –
укорачивая век человека до ста двадцати годов, позднее –
насылая на землю уничтожающий все потоп. По сути, невластный над
временем, Господь предпринимает еще одну попытку сотворения мира,
который гораздо в большей степени, нежели прежний, соответствовал бы
его ожиданиям. И, надо признать, это вновь Ему
удается. Собственно, Создатель изначально обречен исключительно на
благополучные попытки (да и все видящие действительность по-иному уже
изгнаны от лица Всемогущего). В этот раз, впрочем, мы не слышим слов о
том, что мир этот «хорош весьма» - зато Господь
обоняет приятное благоухание благодарственной жертвы Ноя, и
раскаивается в сердце своем, говоря: «Не буду больше
проклинать землю за человека, потому что помышление сердца
человеческого - зло от юности его; и не буду больше поражать всего
живущего, как Я сделал» (Быт., 8:21). В сердечном волнении Творец дает
человекам важнейшую заповедь («не убий») и
заключает первый договор меж Собою и тварью своей, знамением сего
полагая радугу. «И будет, когда Я
наведу облако на землю, то явится радуга в облаке; и Я вспомню завет
Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во
всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой
плоти. И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный
между Богом и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на
земле». (Быт.,
9:14-16). Что изменяется во взаимоотношениях
Всевышнего и человека с заключеньем этого договора? Очень многое.
Прежде всего, Создатель формально признает человека равноправной
стороной отношений, тем самым, юридически подтверждая свободу его
волеизъявления; во-вторых, - косвенно соглашается с утверждением змея,
что миссия Творца – не карать, но доказывать сотворениям
своим, что мир, созданный Им «хорош весьма». Далее, факт заключения договора, в
котором Господь благословляет людей плодиться, и размножаться, и
наполнять землю, единственным запретом полагая человекоубийство (Быт.,
9:1-6),
указывает на чрезвычайную заинтересованность Создателя в существовании
и благоденствии человека. Будучи Мыслителем, мыслящим, прежде всего, по
поводу собственного мышления, и Творцом, воплощающим собственные идеи в
глине, Он сознает, конечно, что на самом-то деле не существует ни
солнца, ни земли - но только глаз человека, созерцающий солнце, только
его рука, осязающая землю; что все мироздание (да и сам Создатель как
мыслитель и объект с некоторыми личностными характеристиками)
существует лишь в восприятии этого слабого и строптивого создания,
каковым является человек[11].
А осознав это, Творец, бесспорно, лукавит, говоря, что полагает
символом завета радугу в небе, дабы, узрев ее в облаке, вспомнить о
человеке и не насылать более потопа на истребление всякой плоти (Быт.,
9:14-15).
В действительности, Он жаждет, чтобы, завидев радугу после дождя,
человек вспомнил о Создателе своем и восхитился мироустроением, при
котором влага с небес по мудрому замыслу Его несет жизнь и умножение
всему, произрастающему из земли. Это так по-человечески –
желать памяти о себе и делах своих, ожидать похвалы, искать слепой
безоглядной любви. Но разве странно то, что в Создателе и творении,
созданном по подобию Творца, обнаруживаются столь сходные цели и
устремления?.. Человек – зеркало, конечно, не лишенное
оптических дефектов и искажений. Но - худо ли, хорошо – оно
принимает, согревается и рассевает тьму Хаоса ответной искрой любви,
доставшейся ему при сотворении, и более всего, быть может, роднящей
человека с Отцом. А потому единственное, что относительно достоверно
может сказать человек о своем и мира непостижимом Создателе –
это указать на далекий и близкий источник света. Бог есть любовь. Это неоспоримо. Бог есть любовь.
Ибо невозможно творить, черпая из источника ненависти. И хотя грань меж
этими чувствами бывает весьма тонка – любовь есть семя, и все
прочее взращивает из себя. Любовь Создателя к человеку не
есть, однако, любовь малыша к котенку. Тот, Кто замысливает мир,
взрослей и сложнее. Тем, Кто мечется над мрачною бездной, руководит
страсть. А посему любовь Творца к сотворению своему не всегда ровна и
логична. Замысливший во тьме хаоса проект
света и любви удивлен и раздражен равнодушием человека, равно как и его
устремленьем вломиться в святая святых Творца. Бог жаждет любви
– но, едва ли, хочет быть понят во всей грандиозности и
смутности своих намерений. Страстно, одним движением, обрушивает Он на
плоскость равнины величественную башню и смешивает языки возгордившихся
человеков. И вновь снисходит, дабы простить и
просить любви. Обнаружив, что человек сызнова
устроился по собственному разумению на земле, а многие и вовсе
поклюняются непотребным каменным истуканам, Создатель предпринимает
очередную попытку договориться. В новом соглашении, этом своеобразном
брачном контракте, в обмен на признанье Себя Единственным и
Исключительным, Творец обещает размножить весьма род Авраама, сделав
его отцом множества народов, и отдать потомству его земли, по которым
тот странствует. Знамением же завета в сей раз Господь предлагает
сделать часть крайней плоти, обрезАть которую следует у всего мужеского
пола (Быт.,
17:1-12)
– предмет, предстающий очам человека куда как чаще, нежели
радуга[12]. Любовь Творца горяча. Он жаждет,
дабы человек помнил о Нем ежечасно… Такова Его воля. Бог
есть любовь. Бог есть страсть. Бог есть огонь, мерно возгорающийся и
мерно угасающий[13].
Его любовь безжалостна и неукротима. Этот пожар настигает человека,
стремясь пожрать окончательно и без остатка. «И вышел огонь
от Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей, которые принесли
курение» (Чис.,
16:35). Не отступает Господь со своей
страстной любовью от человека, то отдавая в рабство, то десятилетьями
водя по пустыне; в иное же время являет невиданные чудеса в виде
расступившихся вод моря или манны небесной. Вот видишь, говорит Он, мои
возможности несопоставимы с подачками каменных истуканов. Договор
обрастает новыми деталями и подробностями. Наконец, Господь требует от
человека того, над чем не властен и
сам: он жаждет повелевать временем - каждый седьмой день человека
забирая себе. Бог как бы ищет ту грань, где раб вновь скажет: довольно!
Он как бы освобождается от принятых на себя обязательств, делая
невозможным исполнение договора другой стороной. Он упивается
собственной властью - дабы похваляться безропотной любовью человека
пред кем-то иным. «Обратил ли ты внимание
твое на раба Моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле: человек
непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от
зла» (Иов, 1:8),
- вопрошает Творец сатану, когда тот с иными сынами Божьими приходит
предстать перед лицом Господа. «Разве даром богобоязнен
Иов?», - не соглашается с Ним сатана. –
«Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него?
Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но
простри руку Твою и коснись всего, что у него, - благословит ли он
Тебя?» (Иов,
1:9-11). Мы словно присутствует при втором
акте пьесы, начатой в Едемском саду. Действующие лица - те же. Но
вместо строптивых Адама и Евы - безропотно любящий Творца праведник
Иов. Змей-сатана возвращает Создателя к вечному спору. Ты ведь сказал,
что он – раб. Разве бескорыстна любовь раба? Разве раб волен
любить? Разве может удаляться от зла тот, кто зла не видел? Как станет
свидетельствовать о сладости не вкусивший от плода? Мы приглашены на второй акт
искушения, где лишние исполнители удалены, и только двое: хитрый
сладкоречивый искуситель и доверчивая невинная жертва… Но столь ли наивен и глуп
Всемогущий? Для какой цели среди прочих дерев,
приятных на вид и хороших для пищи, Он насаживает в Едемском Саду
дерево, столь ядовитое, что в тот же день, в который «вкусишь
от него, смертью умрешь» (Быт.,
2:16-18)? Для кого взращивает Создатель эти плоды? Разве нет
в Нем понимания того, что всякая преграда существует единственно для
того, чтобы быть одоленной? А объявление табу – это указание
потаенной двери, где укрыта реальность, коей ранее не смел и
предполагать. На самом деле, Создатель лишь ожидает, когда запрет будет
нарушен. Человек должен сорвать плод и отпасть от Творца. Ему надлежит
взломать дверь, освободив сцену двоим… Человек должен быть удален
– ибо только из удаления, отпав от Создателя, он по
собственной воле может восхвалять сей «хороший
весьма» мир и Творца.
Вероятность того, что, обозлившись, человек, напротив, станет поносить
Господа, полагается довольно ничтожной. За богохульство ему грозят
наистрашнейшими карами, и человек разумный (свидетельства неразумных не
рассматриваются как легитимные) едва ли станет подвергать себя
опасностям понапрасну. Свобода выбора человека –
это некая теоретическая иллюзия. Причем, иллюзия Творца – но
не твари. Человек в этом смысле лишен обманных надежд относительно
собственной самодостаточности и уверенности в завтрашнем дне. Он
понимает: все его благополучие – исключительно во власти
другого, к кому он может воззвать лишь в молитве. При этом человек
приобретает положение не только зависимое от Творца, но и как бы
постороннее Ему - поскольку Всемогущий сознает: чистота эксперимента
будет соблюдена единственно в случае, когда восхищение и молитва не
станут исходить от Него же самого, лишь воплотившегося в облике твари.
Именно об искренности восхищения и молитвы постоянно напоминает
Создателю сатана. Поэтому, чтобы иметь подлинное свидетельство о Себе
от человека, Господь посылает ему тяготы и испытанья[14].
Хорошо, пытай его сколько хочешь
– но запомни: Мне он нужен живым… Как согласовать эти бесчеловечные
действия с обещаниями Творца о милости «до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Втор.,
5: 9-10)? Или противоречий меж словами и
деяниями Всевышнего нет? И Он лишь применяет тактику упреждающего
наказания, зная заранее, что Иов не вынесет ниспосланных ему испытаний?
Тем самым, демонстрируя человеку свою истинную власть над временем,
власть над прошлым согрешившего праведника? Но пусть тогда укажет
Господь, кто способен вынести подобное горе и не поднять голоса против
губителя собственных детей? И почему, напротив, уже многократно
согрешившему Иову Создатель оказывает милость и дарует столь же
многочисленное потомство? Не признает ли тем самым Всеблагой, что
попросту не обладает безукоризненно тонким и точным инструментом,
способным оценивать поступки и помыслы столь малой в Его масштабах
величины как человек? Не оттого ли и вступает Всевышний в посмертную
тяжбу с человеком на страшном Суде, что в каждом конкретном случае
вынужден перепроверить и подтвердить правомерность прежних решений? А
поскольку договор меж Творцом и рабами Его попросту не работает как
документ прямого и безапелляционного действия - это дает основания
говорить в укоризну праведнику: «Неужели Бог извращает суд, и
Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним,
то Он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и
помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет
над тобою и умиротворит жилище правды твоей» (Иов, 8:3-6).
В итоге милость Творца достается не праведному в делах – но,
выползавшему на коленях отпущенье грехов. Зло (как отсутствие и/или
отъятие добра) каким-то непостижимым образом произрастает из желанья
Создателя сделать все хорошо, и лишь усугубляется ежесекундной
готовностью оперативно подправить то, что хорошо недостаточно. А потому
ожидания и надежды Вседержителя на признание и бескорыстную любовь
человека совершенно беспочвенны и
лишены какой-либо серьезной перспективы. Но, может быть, эта любовь, которой
добивается от человека Творец, не так уж Ему и важна? Может быть, по
большому счету, не важен и сам человек? А все зло, неустроенность и
ущербность мироздания, что столь остро ощущаются на уровне
человеческого бытия - лишь некоторые из вспомогательных частей
сложного механизма, в итоге радующего Создателя Музыкой Сфер? Вернее
– должного радовать. Ибо в стройном хвалебном хоре сыновей
Господних диссонирует голос сатаны, также приходящего свидетельствовать
о мире. Творец ищет признания. Но важно и
лестно Ему мнение исключительно тех, кто сравним с Ним в своей мощи,
кто стоял обок, когда Создатель вылепливал нелепую фигурку из глины и
лобызал, отдавая ей часть собственного дыханья. Бог жаждет похвалы - но
наиболее желанно Ему одобренье того, кто, может быть, сам грелся мечтой
упорядочить на собственный вкус и лад темноту и хлад Хаоса. Человек же – суть тот,
кто создан свидетельствовать в пользу одного либо другого. «Блажен человек, которого
вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителева не отвергай, ибо Он
причиняет раны и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки
врачуют», - призывает один из друзей Иова (Иов,
5:17-18). «Похули Бога и
умри» (Иов, 2:9),
- говорит ему жена, мать убиенных детей. По сути, и человек, и его Творец
хотят одного – завершения жизни. Хотя у каждого из двоих этот
путь свой. Но если с устремлениями человеков, самые отчаянные из
которых сводят счеты с миром самостоятельно, все более или менее ясно:
жажда конца здесь, по большей части, связана с отсутствием света
впереди, с истеричной надеждой хотя бы на последние недолгие слезы о
себе у края могилы – то с суицидальными мотивами Создателя
дело обстоит несколько иначе. Конечно, человек также идет порою на
любой риск ради бессмертной славы. (Вспомним при этом не только
разрушителя Герострата, но и легендарного
строителя Фаросского
Маяка, который, подвергая себя крайней опасности,
распорядился высечь собственное имя на гранитных стенах колосса
– рассчитывая, что свидетельство об истинном создателя
откроется через годы, когда обвалится слой штукатурки с посвящением
тогдашнему правителю страны Птолемею[15]).
Но у Творца жажда признания оказывается, пожалуй, единственным мотивом,
который, как отмечалось, обнаруживается уже в первые дни творенья, и
который вообще открывается (во всяком случае, в той степени, в коей
Господь открывает нам) в его отношениях с миром и человеком. Всякое же
признание, любая оценка события или образа не может быть окончательной,
покуда не оборваны все возможные связи, способные трансформировать
указанные образы и/или события, либо повлиять на восприятие их
сторонними наблюдателями. Следовательно, как и человек, Создатель не
может не стремиться к окончанью времен, к собственной гибели. Следует ли,
однако, вслед за этим в который раз повторить слова Заратустры о том,
Бог умер? Конечно, нет. В утверждении Ницше о
смерти Создателя нету всей правды. Безусловно, Творец жив. Он попросту
не может устраниться, покуда существует мироздание, которое есть
порождение, продукт и способ существования его мысли. Пожалуй, нам
позволительно (если позволительно) говорить лишь о правомерности
подобного волеизъявления. По-видимому, Создатель рад бы оставить свое
детище навсегда, поскольку зло, творящееся в мире с Его молчаливого и
бессильного согласия, делает Его соучастником сих злодеяний. Но как
всякий творец, Он хотел бы уйти вовремя, дабы (и покуда) сумма
злодеяний в измысленной Им действительности не перевесила многократно
совокупность всех добрых дел. Имевший намерение создать мир,
который «хорош весьма», Господь и завершить миссию
желал бы насколько возможно достойно. Поэтому, прежде чем уйти, Творец
предпринимает еще одну попытку спасти свой не вполне удавшийся проект. Низвергнув некогда из Едемского
Сада свое творение – теперь Всевышний опускается на землю,
дабы поставить точку в неоконченном, по нашему мнению, споре с
человеком. Сознавая недостаточную убедительность собственной позиции в
очном споре с Иовом (и предшествовавших тому испытаниях), Создатель
намеревается, прежде всего, оценить реальную степень страданий
праведника и, следовательно, справедливость его претензий к Творцу.
Также Господь предполагает заключить с человеком новый договор,
поскольку неисполнимость прежнего становится все более очевидной.
Причем, наибольшие проблемы с исполнением предыдущих договоренностей
испытывает Всевышний. Исключительно в связи с этим, по-видимому, из
нового соглашения в части обязательств Создателя полностью изымается
положение о том, что Всемогущий есть «ревнитель, за вину
отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих
Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои» (Втор.,
5: 9-10). Именно это свое обещание, убедившись в праведности
Иова, не в состоянии исполнить Творец - ибо не имея власти над
временем, не может воскресить убиенных детей мученика. Впрочем,
надлежащее исполнение данного пункта договора Всевышним оспорить желали
бы многие – случаи подобные трагедии Иова весьма
многочисленны, да и количественные обязательства, принятые на себя
Создателем, едва ли, подчиняются на практике правилам математических
вычислений. Поэтому в новом варианте завета человеку предлагается
индивидуальное спасение в царстве Божием либо наказание в преисподней. В части обязательств человека столь
кардинальных перемен, казалось бы, не происходит – но во
многих из них очевидно весьма существенное смещение акцентов. Одним из
наиболее заметных представляется значительное понижение статуса
родственных отношений в
иерархии заповедей Всемогущего[16]
– что, вероятно, также имеет прямую связь с отказом Создателя
от воздаяния за дела человека его потомкам. Во-вторых, Творец практически
полностью отказывается от своих претензий на время жизни человека,
провозглашая: «Суббота для человека, а не человек для
субботы» (Мар., 2:27)
вместо: «…день седьмой - суббота Господу, Богу
твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя,
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в
жилищах твоих» (Исх.,
20:10). Но главным нововведением,
безусловно, является то, что отныне Творец
намерен оценивать человека и воздавать ему не по
делам (вернее, не исключительно по делам), но - также по помыслам,
сопутствующим деянию либо бездействию[17].
Вне всякого сомнения, это непосредственно связано с проблемой
искренности слов и деяний человека, о которой неустанно напоминает
Создателю сатана. То же самое происхождение имеет, по-видимому, и отказ
Творца слышать излишнее славословие в собственный адрес –
принимая лишь молитву искреннюю и краткую: «Отче
наш…»[18]
Не только это, однако, является
прямым следствием спора Всемогущего с Иовом. Еще прежде заключения
нового завета, едва Дух Божий снисходит на Иисуса при крещении в водах
Иордана, Отец отдает Сына, как ранее Иова, в испытание дьяволу. Творец
желает удостовериться в обоснованности претензий к Себе человека. Он
как бы Сам становиться лицом к лицу против змея, говоря: что ж, испытай
и Меня… И так же, как Иов, Создатель готов принять муку
гибели Сына, осужденного на пытку и смерть. И, словно прокаженный и
проклятый праведник, ищет позорного конца на кресте в компании двух
разбойников. Но самое странное и удивительное
– жаждущий смерти подобно Иову, Творец оказывается не готов
ни умереть Сам, ни пережить гибель возлюбленного Сына. Испытания,
которые посылает Он человеку, оказываются черезмерны для Создателя. И
первое свидетельство тому – слова Иисуса, громким голосом
вопиющего с креста: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил?»[19]. Поистине же уникальным и
неоспоримым доказательством слабости Отца есть воскрешение Сына Божия
из мертвых на третий день после казни. Вседержитель, не властный
воскресить невинно убиенных детей Иова, не готов удовлетвориться
воздаянием, которым ранее сам возмещает страданья праведника: не другого сына Своего зачинает Отец и
направляет вновь искупать грехи человеков – но тот
же самый израненный Иисус является спустя время Фоме и иным
ученикам[20]. Тем самым, в отношениях человека и
Творца впервые определенно и внятно обозначаются категории временного и вечного.
Вечность (а равно, и вечная жизнь, обещанная человеку) как бы рождается
из протеста Иова, из его сумбурного и неравноправного спора с
Создателем. Отныне Всевышний отчетливо сознает, что прежние
взаимоотношения с человеком, основанные на воздаянии либо наказании еще
при жизни[21],
совершенно несостоятельны (и прежде всего, - методологически).
Поскольку всякое судилище, устраиваемое по поводу отдельно взятого
эпизода жизни не является вполне объективным, подлежит пересмотру при
возникновении новых обстоятельств и попросту компрометирует Творца,
являющегося в известной мере стороной заинтересованной в извечном и
ежесекундном состязании с сатаной за самую ничтожную хвалу человека.
Суд, поистине объективный и праведный, состоятелен лишь при условии,
что все нити сплетены в окончательный узор, а ошибочный приговор не
может стать более причиною неоправданных нравственных и физических
страданий, тем более - поводом к свершению человеком новых и более
страшных злодеяний. Поэтому такой суд не может иметь места до окончанья
времен. Следовательно, если вечности нет,
если нет суда окончательного и беспристрастного – позволено
все. Такова логика. К этому приходит (а вернее - исходит из этого)
Достоевский – писатель, чья идеология во многих важнейших
пунктах коренится собственно в протесте Иова. Ибо именно автор
«Преступления и наказания», быть может, столь же
остро, как Иов, сознавал собственную невиновность в ожидании смертной
казни, объявленной именем помазанника Божия, и, как Иов, вероятно,
кричал внутри себя вечные и неудобные вопросы Создателю. Поэтому
Достоевский говорит не только о «слезинке ребенка»,
каковой отказывается оплачивать «высшую гармонию»
устроенного Творцом мироздания[22],
полагая наказание человека, отнесенное к его детям, деянием абсолютно
безнравственным, а со стороны существа всемогущего – попросту
ужасающим в своих безжалостности и цинизме. Но также он говорит и о
времени. Он говорит о вечности и бессмертии – о времени как
фундаменте мироздания, мере всего существующего и несуществующего, а не
просто длительности меж двумя пусть даже невероятно значительными
событиями. «И был вечер, и было утро: день один». «Идея
о бессмертии - это сама жизнь, живая жизнь ее, окончательная формула и
главный источник истины и правильного сознания для
человечества», - настаивает Достоевский в своем
«Дневнике»[23].
При утрате же идеи бессмертия «самоубийство…
является совершенной и неизбежной необходимостью для каждого человека,
чуть-чуть поднявшегося в своем уровне над скотами»[24]. Вопросы бессмертия и самоубийства
здесь увязаны столь же тесно, как и проблемы ответственности и
воздаяния за содеянное[25].
Несуществование бессмертия предопределяет невозможность оценки человека
как существа целостного, личности, сотворенной по образу Вседержителя
– но делает его игрушкой в руках Творца, который и судит его
ситуативно, как нашкодившего котенка. В этом случае человек, получивший
при изгнании из Едема формальную свободу воли, не может, конечно, в
должной мере нести ответственность за собственные прегрешения.
Отрицание бессмертия делает невозможным и само раскаяние, которое, по
сути своей, есть желание стать другим, переменить собственные поступки
и их последствия – то есть, переиначить мир, переиграть роль
и, обратив вспять само время, возвратиться другим
человеком в те самые час и место,
где была допущена роковая ошибка. (Стало быть, зло торжествует не
оттого, что человек однажды уклоняется в сторону от добра –
но потому, что он не властен возвратиться к истоку). В условиях же,
когда это совершенно недостижимо, в мироздании, где «все
возникает на время, а погибает навечно»[26]
- единственным ответственным поступком для человека остается
самоубийство. Самоубийство – вот единственная возможность
раскаяния, которую оставляют человеку (ибо раскаяние без последствий,
без устранения уже причиненного зла есть ничто).
Раскаяния в том, что ты вброшен в устроенный таким образом мир помимо
собственной воли. Творец наказывает Иова через гибель
детей именно потому, что дети – единственная возможность
человека хоть краем глаза заглянуть за горизонт. Вседержитель не волен
наказать Иова-мальчика, что был прежде; Он также не может вернуться
вспять и взять назад данные ранее обещания. У Него нет власти над
поступками, которые Он хотел бы переменить. Он гневается только здесь и
теперь, даже не просчитав должным образом последствий опрометчивых
громометаний. Он беспомощен перед прошлым - в Его оперативном
подчинении принадлежащая только Ему личная вечность, единственно
доступное волеизъявление над которой - пресечь… Не оттого ли мы видим Его в
компании двух разбойников, осужденных на позорную казнь? Ужели не во
власти Всесильного рассеять и посрамить Своих гонителей и палачей?
Конечно, и в этот раз Он волен совершить страстный и безрассудный
поступок, о котором позже станет вновь сожалеть. Ибо разве не Он
предначертал Себе этот путь на Голгофу? Поскольку, если ничего не
можешь переменить, переиначить, переиграть, если все совершенные тобою
действия судьбоносны и необратимы, единственно возможный способ
раскаяния – принять смерть… Принять смерть – это
попытка прокричать о своей невиновности. Это желание быть услышанным и
понятым. Это жажда завершить образ. Ожидание вечной бескорыстной любви.
И стремление на полуслове оборвать вечность, которой нет, если
существует она единственно (и единственная) в тебе и для тебя. Но Тот, Кто приходит,
«чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих» (Матф.,
20:28, Мар.,
10:45), оказывается не готов к раскаянию. Пред потомками Иова
отрекается Творец блюсти заповедь: око за око… Сына за сына
не в силах предать Он в руки смерти. И мертвые праведники, и сыновья
убиенные праведников, как прежде, остаются в гробах. Ибо восхитил из
гроба Он Сына Своего – искупления
не исполнив. До следующего раза, до второго пришествия отложена воля
Творца «ничего не погубить, но все то воскресить в последний
день» (Иоан., 6:39). Христос воскресе! Мы пребываем в
ожидании последнего дня, даты которого не ведает Сам воскресший. День
не назначен. Не исполнив обещанного – не умерев, но
отлучившись лишь ненадолго из мира – Творец избегает
определенности. Бог как бы отшучивается. Он смеется: сие есть во власти
созданных по образу и подобию. Не будете верить, но станете предавать и
гнать Меня – час конца близок… А сего дня я прощаю
вас, - говорит Он: Фоме, Петру, Павлу… Смотрите и
вкладывайте пальцы ваши в раны Мои – Я жив. Я только хотел
испытать вас. На сей раз то была шутка, игра. Но в следующий Мой
приход, в день последний…
Почему не известно, почему не
назначено время конца? Наша
ли то вина либо привилегия? Или это Творец гонится за временем, словно
Ахиллес за черепахой – и, в полном согласии с философскими
выкладками, не может догнать? Нет, не то, чтобы Он не мог поднатужиться
и оббежать эту бронированную тварь. Но хочет ли этого Он? Знает ли, что
за вопрос ожидает Его, когда встанет Он преградой пред этой, не знающей
преград на море и суше, амфибией?.. Не скажут ли Ему: теперь, в это
мгновение Ты уже впереди. Но всякую секунду прежде выигрывала я.
Признаюсь, я словчила: стартовала чуть раньше. Переиграем? Я не хочу
одерживать победы нечестно… И в это мгновение Создатель
проигрывает окончательно, поскольку вынужден признать, что не волен
вернуться вспять. Он не властен над временем, вся Его сила помещается
впереди. Вся Его мощь и метанья над бездной, все мироздание,
сотворенное Им – оставлены в прошлом, где нет уже ни Творца,
ни Адама, ни змея. Свет, каковым сотворял его Вседержитель, давно угас.
Есть другой мир – взращенный из первоначального зерна. Но
само семя обращено в прах. Творец не может начать бег сызнова. Бог
– это вечное будущее. Поэтому Он не волен умереть, перестав
быть – но обречен на постоянное воскрешение. И потому вперед,
к воскрешенью, Господь влечет нас – прочь от живых и веселых
к новым и новым гробам, что единственно неизбежны впереди, и из которых
в день последний станет поднимать истлевшие пустые тела. Почему мы полагаем, что тогда это
будет всерьез? Отчего так жаждем мы часа
окончательного суда? В самом ли деле отсутствие бессмертия делает наш
мир более ужасным и бессмысленным, нежели он есть? Справедлива ли, в
конце концов, мысль, что коли вечности не существует - то все
позволено. Если в данном тезисе Достоевского наиглавнейшим препятствием
существования зла полагается бессмертная душа человека, в коей прежде
всего дОлжно чтить образ и подобие Божие – почему
это подобие, эту свою частицу не чтит сам Творец, не только самолично
карая человека, но и отдавая его в истязание вечному супротивнику? Не
объясняется ли это бесчинство той, собственно, причиной, что бессмертие
как раз существует, вследствие чего все беды и несчатия человека в час
последнего суда будут объявлены лишь земным испытанием: игрой,
экзаменом, военным учением, - которое вовсе не имеет цели причинять
боль и убивать всерьез. Но ежели эта дарованная мне Творцом жизнь, коей
я не просил, – всего лишь подготовка, проба, испытанье, этюд
перед грядущим бессмертием – не именно ли эта обещанная мне
впереди вечность делает дозволенным зло, которого я намеревался бы
избечь, сознавая его необратимость - но вполне могу позволить порой в
игре, именуемой Жизнь? Не вызывают ли у вас отвращенья
циничные жестокие человекоубийцы, что обращаются вдруг в безропотных
богобоязненных иноков, уверовавших в бесценность и бессмертие
человеческой души? Не влечет ли их к вере именно идея бессмертия,
обращающая как бы в игру все те ужасные преступления, которым нет
оправданья, если вечности не существует, но ежели она есть –
вполне допускающая возможность все отменить, переиначить, переиграть?
Не оттого ли так многочисленны в сочинениях Достоевского (пережившего
невзаправдашную инсценированную казнь) уверовавших в бессмертие падших
женщин, преступников, человекоубийц? Не потому ли столь велико и
влечение вочеловечившегося Творца именно к греховным сотвореньям своим?
- ибо также жаждет
Господь избыть необратимость собственных поспешных громометаний,
переделать, переиграть – дабы иметь оправдание
прежним и еще грядущим злодеяниям в отношении человека. Если бессмертие есть –
дозволено все?.. Но чего ждет от вечности человек
законопослушный, смирный и богобоязненный? Едва ли –
богатства, власти, развлечений и безрассудств, которых был лишен
прежде. Едва ли он хочет этого, если действительно богобоязнен и благ. Но жаждет
праведник, по сути, того же, что и самый закоренелый преступник
– ни окончательного признания собственной благости даже, но
– обратимости жизни. В конечном счете, он ищет приблизительно
того же, что и
Степной Волк в ирреально-наркотическом аттракционе «Все
девушки твои»[27]:
остановиться, а не пройти мимо, где прежде оказался нерешителен;
остаться, а не уехать, где когда-то сел в поезд; простить там, где не
сумел. По сути, Вечность человека направлена в сторону, противоположную
устремлениям Творца, человек ищет прошлого, которое было упущено и не
состоялось – прошлого, над которым Всемогущий не властен. Конечно, мы не прочь
воспользоваться и реальными возможностями Создателя - рассчитывая,
безусловно, на встречу с теми, кого любили, кто ушел раньше. Но
исполнимы ли и эти, достаточно скромные с точки зрения Всемогущего,
ожидания человека? Что после многих лет разлуки скажут Иову (и сказали
уже) его дети, первенцы дочери и сыновья? Отче, почему не похулил ты
Господа и не умер, как учила тебя наша мать?.. Чем обернется для нас эта встреча с
теми, кого мы любили и утратили здесь? Чьею, в конце концов, будет жена
семи братьев, каждый из которых умирая бездетным, оставлял жену
младшему? Ничьей, - отвечает Иисус на коварный вопрос саддукеев.
«Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но
пребывают, как Ангелы Божии на небесах»[28]. Не подтверждает ли сей ответ, что
упованья наши напрасны? Не есть ли это, столь чаянное нами
воскресенье, лишь очередная уловка (дабы
не сказать очередной
обман) Творца? Не ожидают ли нас при встрече со Вседержителем
очаровательная улыбка, изысканно-ироничное восклицание:
«Разве не сказано прежде вам: «Бог не есть Бог
мертвых, но живых»? (Матф.,
22:32). И как прежде в саду Едемском
изобличая Творца словами «нет, не умрете» (Быт., 3:4)
– прошипит откуда-нибудь из желтой увядшей листвы вечный и
любимый Его соперник: «Не воскреснете,
нет…» Ибо Бог живых не властен над
мертвыми. А то что вылепят (если это возможно) из погребенного
человеческого материала - не станет вновь человеком. Во всяком случае -
не тем, кто любил, боялся, ненавидел и чаял быть, прежде всего, собой.
Это будет другой. Бог не страшиться вопросов Иова, заданных после
смерти. Бог не боится его встречи с убиенными невинно детьми. Они не
встретятся никогда. Но и встретившись – не узнают
друг друга. «Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят
замуж» (Матф.,
22:30), а значит – и не рожают,
не хоронят, тем более
- не узнаЮт рожденных и погребенных прежде, не здесь…
Создателю, восхваляющему левиафана, гнев Иова опасен, пока тот жив. И
позволяя зачать ему вновь семерых сыновей и троих дочерей, Бог как бы
сознается праведнику, что встречи с прошлым не будет. Все, что
происходит – случается бесповоротно. И всякому началу дня
предшествует конец прежнего, а воскресению или рождению –
смерть. Вернее (вернее всего) дело обстоит
так, как и вовсе невозможно вымолвить – но лишь прошипеть
из-за вороха истлевшей ссохшейся плоти: нет, не воскреснете…
Воскресения нет. Но есть, быть может, некий склад, архив –
нет, не душ, но – мимолетных впечатлений, эмоций (и эманаций)
этих душ - некий сухой (или летучий) остаток (как в фильме
Хирокадзу Коре-Эда «После
жизни»), должный однозначно свидетельствовать pro или contra Творца, за или против Его
соперника… Там каждый обязан сделать свой выбор, встав пред
необходимостью оценить: нет, не себя, не жалкие свои дни, но - весь
этот мир, весь грандиозный замысел (и посильное воплощение замысла)
Всемогущего. Слабый и уже выброшенный вовне (или затянутый внутрь)
через мрачную извилистую трубу – там, на неописуемо ярком
свету, всякий должен принять или отвергнуть бесценный дар, именуемый
мирозданьем, куда был вброшен (или изблеван) однажды помимо воли;
взвесить и оценить всю силу и бессилье Создателя. Но для самого
человека то будет лишь одно впечатление, один проблеск истины в
сумбурной и невразумительной череде дней: ненависть или умиротворение,
счастие или боль… Бог не всегда воздает в этой жизни
разумным и любящим Его - справедливо полагая, что разум и любовь
любящих Его с Ним и пребудет. Гораздо более озабочен Господь судьбою
невразумленных - с избытком отмеряя радостей земных убийцам,
клятвопреступникам и прелюбодеям. Бог не всегда справедлив в этой жизни
и редко воздает по заслугам своим рабам. Ибо для Творца не суть важно,
что происходит внутри хрустального шара – но бесконечно
значимо как будут оценены замысел,
форма и свет. Что в таком случае может решить
существование или несуществование вечности и бессмертия? Все дозволено – если
бессмертия нет. Когда таковое ограничение подстегивает кого-то к
сокровенным, но воспрещенным деяниям. И равно, все дозволено –
если бессмертие существует. Коли отсутствие видимой линии горизонта
высвобождает в человеке тайное-тайных и темное-темных его скотской
натуры. В этих утверждениях нет
противоречия или парадокса. Поскольку единственной разумной целью
Творца, стремящегося заслужить одобрение человека на Страшном суде,
возможно помыслить лишь достижение всеобщего счастья – то
есть, самореализацию всякого индивида. Иными словами –
вседозволенность. Ибо праведник бывает счастлив в праведности своей,
злодей же – в собственном злодеянии. Праведникам, коли они
праведны, не должно сетовать на такое мироустройство; согрешив
– они не станут счастливее. Но следует помнить: мир устроен
Создателем не ради нас – но ради Него Самого. Творец, как и мы, жаждет
реализовать свой потенциал и свои устремленья, сущность которых от нас
сокрыта. Мы вообще крайне мало знаем о
замысле и целях Творца. Одна из немногих вещей, что известны нам
достоверно (если достоверным считать откровение Вседержителя, данное
через слово) – это извечное соперничество Создателя и Его
любимого (прежде) ангела Змея. О чем враждуют и что надеются
стяжать они, вовлекая в свою борьбу слабого человека? Обладание миром,
власть над душами бренных и смертных земных существ? Разве есть шанс на
победу у кого-либо в соперничестве с Всесильным?[29]
Тем не менее, для обеих враждующих
сторон борьба, по-видимому, не лишена смысла – ибо
созидательно-разрушительная деятельность каждого строится не в расчете
на сиюминутные успехи. На самом деле, сражение идет за обладание
вечностью, за хрупкое равновесие или падение колеса мирозданья
– «некоего движущегося подобия вечности»,
замысленного и устроенного Творцом[30]. Но почему, восклицаем мы,
равновесие хрупко, а падение неизбежно? Почему все возникает на время,
а гибнет навек? Отчего «возникновение и гибель
неравномощны»[31]? Этих вопросов и ожидает от нас
Творец – ибо тем самым влечемся мы к вечности, которою от
времен Голгофы манит и искушает Господь. И этот соблазн, столь несхожий
и единоутробный проклятью смерти в Едемском Саду (хотя и знаем: к новой
жизни, воскреснем не мы - но другие; в противном случае, все станет
только повторением прежнего, вечным бесконечным повторением, что на
самом деле и есть ад[32]),
этот сладкий запретный («Нет, не
умрете…» - «То есть, станем жить
вечно?»), но уже надкушенный плод, пожалуй, более всего
свидетельствует: однажды мир будет таки остановлен. И тогда на Страшном Суде, последнем
Страшном Суде времен, суде над Всевышним – мы вознесемся, и
всякое наше слово, всякая улыбка и слеза станут учтены и бесценны,
всякое свидетельство «pro» и «contra». И кто-то из двоих
окажется чересчур легок, будучи взвешен, - увы и ах, на вечность вперед. Ибо вражда меж Творцом и змеем идет
за обладание временем, за власть над собственной мыслью, что не может
быть продумана и воплощена иначе как через сотворение мира. И Страшный
Суд – бесценная (поскольку единственная) возможность стать
(либо остаться) собой, отсудив право[33]
поднять колесо падшего мирозданья. А сотворив сызнова - катить, сколько
достанет сил (не имея возможности передохнуть и оглянуться) этот
совершенно новый «хороший весьма» мир, где мы не
будем ни воскрешены, ни убиенны – без нас… Ибо мы
- ничтожная, но неотъемлемая часть дыханья и мысли того, Кто колесо
упустил. И в слабой надежде на обретенье второй попытки (улучшенной и
исправленной – ибо мысль изреченная, конечно, есть ложь),
соблазняя обманно вечной жизнью и воскресением – нас
призывают на Страшный Суд с единственной целью: свидетельствовать в
пользу не удержавшего равновесие Творца… Здесь «ни женятся, ни
выходят замуж». Здесь нежный свет и кроткая улыбка.
Уклончивый полувопрос-полуответ. Легкая ирония. Ты достаточно видел
небо в алмазах?.. Не умеющих соблюсти приличий,
гневливых и софистов, Творец грозит низвергнуть в преисподнюю
– дабы хоть там, пред пытками и огненным озером, посмертно
осужденный, отчаявшись, выкрикнул столь милое слуху Вседержителя: да,
здесь ужасно, Твой мир был хорош… И усмехнется растерянно и
печально Его супротивник - пытающий нас вопреки своим пользе и воле. Человек слаб. Но может быть,
истинное мужество и достоинство человека состоит в том, чтобы не
уступить этим последним соблазну и пытке – сознавая, что
свидетельства (как и свидетель) живы исключительно до поры, покуда
бесповоротно не определены им чаша и вес. И потому, коли достанет воли
и сил (что едва ли возможно, судя по стенаниям Сына на кресте), на
заданный мне участливо и кротко вопрос: «Был ли ты
счастлив?» - я хотел бы смолчать. [1] Дж. Хеллер.
Вообрази себе картину, гл. 31. [2] Именно тот факт, что Творец возвращает Иову здоровье и (вдвойне) утраченное имущество, а также позволяет родить новых детей – многим представляется неоспоримым доказательством всемогущества и всеблагости Творца. Вот, однако, иная точка зрения на «Книгу Иова»: «Здесь жестко ставится проблема теодицеи (оправдания Бога): если Бог всемогущ, то Он не всеблаг; а если всеблаг, то не всемогущ. И на это дается единственный логически непротиворечивый ответ. …Бог всемогущ, но непознаваем, от него исходит и добро, и зло. И люди могут лишь просить у него милости, а не требовать от него справедливости» (Рассоха И.Н. Финикийская философия и Библия. 3.5. Книга Иова и «сыны Кореевы»). Еще более определенно другое высказывание: «Да, Творец бесчеловечен, потому что Он – не человек, а Высшая Материя, Абсолют, к которому не подходит любая качественная характеристика» (Якубович Б.А. ИОВ. ПРАВЕДНИК ИЛИ КОНФОРМИСТ) Соглашаясь, в значительной мере, с приведенными мнениями, автор статьи полагает, однако, что отсутствие всеблагости происходит не столько из иной природы Творца (человек создан по Его образу и подобию) или невозможности непротиворечивого обладания ею (всеблагостью) существом Всемогущим. «Бесчеловечность» Создателя является, по мнению автора, прямым следствием именно отсутствия у Творца полноты власти – о чем автор и имеет намерение сказать далее. [3] …ожидаемых каждым слов
- ведь сказки, являющиеся отражением наших сокровенных чаяний, всегда
воскрешают невинно убиенных героев. [4] В Псалме 143 говорится: «Господи! что есть человек, что Ты
знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него
внимание?» (Пс.,
143:3). [5] Эта безропотная готовность ангелов
к прославленью Творца, вероятно, не является даже актом
низкопоклонничества и лести – но естественной хвалой в
собственный адрес: если Творец и его замысел хороши –
следовательно, хороши и мы, ангелы Божии, как плод непогрешимого
мышленья Создателя. [7] ДАМАСКИЙ.
О началах, 124, в кн. Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. I, 1.2. Предфилософская традиция. Орфическая
теогония по Евдему, с. 48. [8] ДАМАСКИЙ.
О началах, 123 bis, в кн. Фрагменты ранних греческих
философов. М., 1989. I,
1.4. Предфилософская традиция. Орфическая
теогония по Иерониму и Гелланику, с. 61-62. [9] Херонейская
битва – состоялась в [11] Конечно,
это мысль Шопенгауэра, которая, впрочем, как всякая мысль хотя бы в
зачаточном состоянии должна была содержаться в умствовании Неподвижного
Перводвижетеля, дабы постепенно развиваясь, отлиться в слова философа:
«Мир есть мое представление»: вот истина, которая
имеет силу для каждого живого и познающего существа, хотя только
человек может возводить ее до рефлективно-абстрактного сознания; и если
он действительно это делает, то у него зарождается философский взгляд
на вещи. Для него становится тогда ясным и несомненным, что он не знает
ни солнца, ни земли, а знает только глаз, который видит солнце, руку,
которая осязает землю; что окружающий его мир существует лишь как
представление, т.е. исключительно по отношению к другому, к
представляющему, каковым является сам человек. Если какая-нибудь истина
может быть высказана a priori, то именно эта, ибо она –
выражение той формы всякого возможного и мыслимого опыта, которая имеет
более всеобщий характер, чем все другие, чем время, пространство и
причинность: ведь все они уже предполагают ее, и если каждая из этих
форм, в которых мы признали отдельные виды закона основания, имеет
значение лишь для отдельного класса представлений, то, наоборот,
распадение на объект и субъект служит общей формой для всех этих
классов, той формой, в которой одной вообще только возможно и мыслимо
всякое представление, какого бы рода оно ни было, –
абстрактное или интуитивное, чистое или эмпирическое. Итак, нет истины
более несомненной, более независимой от всех других, менее нуждающихся
в доказательстве, чем та, что все существующее для познания, т.е. весь
этот мир, является только объектом по отношению к субъекту, созерцанием
для созерцающего, короче говоря, представлением. Естественно, это
относится и к настоящему, и ко всякому прошлому, и ко всякому будущему,
относится и к самому отдаленному, и к близкому: ибо это
распространяется на самое время и пространство, в которых только и
находятся все эти различия. Все, что принадлежит и может принадлежать
миру, неизбежно отмечено печатью этой обусловленности субъектом и
существует только для субъекта. Мир есть представление». (Шопенгауэр. Мир как воля и
представление, §1). [12] О значении
символа обрезания см. также статью «Обрезание как
символическое рассечение змея». [13] Гераклит
писал: «Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто
из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой
огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий». - КЛИМЕНТ
АЛЕКС. Стоматы, V, 103, 6 (т. II, с. [14] Деметрий
Фалерский говорит об этом так:
«…чтобы испытать мудрость в каждом,
кого сотворил под небесами Он, событие пагубное посылает Господь сынам
человека, чтобы иметь свидетельство о нем» (Речения
Экклезиаста, 1:13). [15] Вот что сообщает об этом Лукиан:
«Итак, построив такое сооружение, строитель внутри на камнях
написал собственное имя, а затем, покрыв его известью, написал поверх
имя тогдашнего царя, предвидя, как это и случилось, что оно очень скоро
упадет вместе со штукатуркой и обнаружится надпись: «Сострат,
сын Дексифана, книдиец, богам-спасителям за здравие
мореплавателей». Он считался не со своим временем, а с
вечностью, пока будет стоять маяк - произведение его
искусства» - Лукиан. Как следует писать историю, 62;
в книге: Лукиан. Избранное. – М, 1987. [16] Иисус
говорит: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не
мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом
его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку
- домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и
кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин
Меня». (Матф.,
10:34-38) . [17] Слова Спасителя: «Вы
слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А
Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно,
подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака»,
подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный»,
подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к
жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против
тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с
братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником
твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя
судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;
истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего
кодранта. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой
соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы
погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое
было ввержено в геенну». (Матф.,
5:21-30). [18] Иисус учит: «И,
когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на
углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми.
Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда
молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же
так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш
насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». (Матф.,
6:5-13). [19] «…а
около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил?» (Матф.,
27:46). [20] О
явлении воскресшего Иисуса Марии Магдалене и апостолам читай Ин., 20:
11-29, Ин., 21:
1-25. [21]
Закон иудеев (Тора)
учит о воздаянии и наказании человеку именно в период его земной жизни.
Бог вознаграждает праведных, даруя им процветание, благосостояние и
долголетие, и наказывает грешников разорением и гибелью. При этом в
ранних книгах Библии нет никаких прямых указаний на суд, ожидающий
человека после смерти. По завершении жизни человек, согласно воззрениям
иудаизма, спускается в преисподнюю (шеол) – угрюмое и мрачное
место, подобное могиле. Шеол является обиталищем всех умерших вне
зависимости от свершенного ими в земной жизни. Цари и простые смертные,
вельможи и нищие, хозяева и рабы — все равны в обиталище
мертвых. Выхода из шеола нет. Смерть рассматривается в раннем иудаизме
как явление окончательное и необратимое. Именно такая точка зрения вызывает
резкое неприятие и критику эллина Деметрия
Фалерского, который, достаточно
глубоко ознакомясь с воззрениями иудеев в процессе перевода
их Закона на греческий, пишет в «Речениях
Экклезиаста»:
«Но вместе со всем этим принес я в сердце мое, что в
преисподней все те, кто праведны: и мудрецы, и рабы их - от руки
Господа ни любви, ни ненависти не познать человеку любому пред ликом
Его. Каждый подобен потому каждому, и стезя одна для праведного: и
нечестивец, чтоб стать благим, и непорочный, и осквернившийся - равно
закалывает жертву; а от кого нет Ему заколотой жертвы, если был благ -
становится нарушителем клятвы данной, которой проклятья страшится.
Этот - злодей во всем, что [им] совершалось под солнцем, - а участь
одна со всяким…» (Речения
Экклезиаста, 9:1-3). Только вопиющие несоответствие
декларируемых Законом принципов и реалий жизни, где праведники
страдают, а грешники благоденствуют, а также влияние эллинистического и
христианского учений приводит к возникновению в иудаизме идеи о
воздаянии в мире ином. На этом свете человек лишь накапливает
совокупность добрых или злых поступков, предопределяя себе наслаждение
или страдание в будущем мире; земные блага приобретаются в ущерб
вечному блаженству, а страдания компенсируются последним. Подробнее этот вопрос освещен в
статьях Электронной
Еврейской Энциклопедии: ВОЗДАЯНИЕ,
ОЛА́М ХА-БА́,
АД, ВОСКРЕСЕНИЕ
ИЗ МЕРТВЫХ, ДУША. [22] Иван Карамазов говорит своему
брату: «Видишь
ли, Алеша, ведь, может быть, и действительно так случится, что когда я
сам доживу до того момента али воскресну, чтоб увидать его, то и сам я,
пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее
дитяти: «Прав ты, господи!», но я не хочу тогда
восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей
гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного
только того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и
молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к
«боженьке»! Не стоит потому, что слезки его
остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть
и гармонии». (Достоевский
Ф.М. «Братья Карамазовы», ч. 2, кн. 5, гл.
«Бунт»). [24] «В результате ясно, что
самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенною и
неизбежною даже необходимостью для всякого человечка, чуть-чуть
поднявшегося в своем развитии над скотами». (Ф.М.
Достоевский. Дневник писателя. 1876. Декабрь. Гл. первая. III. Голословные
утверждения). [25] Вот что пишет по поводу этих
мыслей Достоевского Бердяев: «Мысль Достоевского не означает,
что у него была элементарно-упрощенная и утилитарная постановка
проблемы зла и преступления. Он не хотел этим сказать, что за зло и
преступление человек получит наказание в вечной жизни, а за добро -
награду. Такого рода примитивный небесный утилитаризм был ему чужд.
Достоевский хотел сказать, что всякий человек и его жизнь в том лишь
случае имеет безусловное значение и не допускает обращения с ним как со
средством для каких-либо идей или интересов, если он - бессмертное
существо. Отрицание бессмертия человека для него равносильно отрицанию
человека. Или человек - бессмертный дух, имеющий вечную судьбу, или он
преходящий эмпирический феномен, пассивный продукт природной и
социальной среды. Во втором случае человек не имеет безусловной цены.
Не существует зла и преступления. Достоевский защищает бессмертную душу
человека. Бессмертная душа, значит также и свободная душа, имеет вечную
безусловную цену. Но она также ответственная душа. Признание
существования внутреннего зла и ответственности за преступления
означает признание подлинного бытия человеческой личности. Зло связано
с личным бытием, с человеческой самостью. Но личное бытие есть
бессмертное бытие. Разрушение бессмертного личного бытия есть зло.
Утверждение бессмертного личного бытия есть добро. Отрицание бессмертия
есть отрицание того, что существует добро и зло. Все дозволено, если
человек не есть бессмертное и свободное личное бытие. Тогда человек не
имеет безусловной цены. Тогда человек не ответствен за зло. В центре
нравственного миросозерцания Достоевского стоит признание абсолютного
значения всякого человеческого существа. Жизнь и судьба самого
последнего из людей имеет абсолютное значение перед лицом вечности. Это
- вечная жизнь и вечная судьба. И потому нельзя безнаказанно раздавить
ни одного человеческого существа. В каждом человеческом существе нужно
чтить образ и подобие Божие. И самое падшее человеческое существо
сохраняет образ и подобие Божье. В этом нравственный пафос
Достоевского» (Бердяев
Н. Миросозерцание Достоевского. Глава IY. Зло). [28] См. Матф.,
22:23-30. [29] Если
верно то, что в предыстории мироздания существовал особый
договор между Богом и дьяволом, согласно которому дьяволу позволялось
делать все, что он хочет, но — только в течение ограниченного
времени; если такой договор в самом деле имел место, и граница между
Богом и дьяволом пролегает не в пространстве, а во времени, которое не ограничено ничем для Творца, но имеет
совершенно определенные временные рамки для дьявола (смотри)
– тогда соперничество двух антиподов тем
более лишено смысла, ибо победа Творца в очерченных Им же Самим
временных границах предопределена априори. О существовании некоего договора о
разделения сфер влияния Творца и сатаны в пространстве и времени
свидетельствуют и некоторые священные и апокрифические книги. Несколько цитат. «И
низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его
низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на
небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть
Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на
них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровию Агнца и
словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти.
Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе
живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной
ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откр.,12:9-12). «И взял Адам волов и
вспахал землю. И пришел Дьявол и встал перед волами, чтобы не давать
Адаму землю пахать. «Потому что, -
сказал Дьявол, - моя земля, а Божий небеса и Рай. И если
хочешь моим быть, то землю паши. Если же хочешь Божиим быть, то иди в
Рай». И сказал Адам: «Божий небеса и земля со всем,
что ее населяет». Дьявол же не давал ему пахать и сказал:
«Напиши мне своей рукой, что ты мой, и ты на земле будешь
Работать». Адам же сказал: «Чья земля, того и я, и
дети мои». Но знал Адам, что должен сойти Господь на землю и
родиться от девы. Дьявол же очень обрадовался и сказал:
«Заложись за меня». И взял Адам доску каменную и
написал рукописание, и сказал: «Чья земля, того и я, и дети
мои». Дьявол же взял рукописание и скрыл у себя»
(апокриф «Об Адаме и Еве»). «И увидел я Ангела,
сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке
своей. Он взял дракона, змия древнего,
который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его
в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал
уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно
быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и
сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за
свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни
образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они
ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не
ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. Блажен
и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не
имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысячу лет. Когда же
окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет
обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и
Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской» (Откр.,
20:1-8). [30] «Демиург
замыслил сотворить некое движущееся подобие вечности; устрояя небо, он
вместе с ним творит для вечности, пребывающей в едином, вечный же
образ, движущийся от числа к числу, который мы назвали
временем». (Платон. Тимей.
- Соч. в 3-х тт. Т. 3. Ч. [32] Конечно,
мысль о том, что ад – это бесконечное повторение одного и
того же принадлежит М.К. Мамардашвили. «Онтологическая
ситуация человека есть ситуация упрямой слепоты. …это
ситуация – я сейчас ее иначе назову, – когда мы не
извлекаем опыта. Когда с нами что-то происходит, а опыта мы не
извлекаем, и это бесконечно повторяется. Кстати, у Пруста очень часто
фигурирует образ ада. А мы употребляем слово «ад»
как обыденное или из религии заимствованное слово, но забываем его
первоначальный символизм. Ад – это слово, которое
символизирует нечто, что мы в жизни знаем и что является самым
страшным, – вечную смерть. Смерть, которая все время
происходит. Представьте себе, что мы бесконечно прожевываем кусок и
прожевывание его не кончается. А это – не имеющая конца
смерть. Это дурно повторяется. Все заново и заново в нашей жизни или в
истории делается одна и та же ошибка, мы совершаем что-то, из-за чего
раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за
чего мы раскаиваемся» (М.К. Мамардашвили. Психологическая
топология пути. (Лекции о романе М. Пруста «В поисках
утраченного времени»). Лекция
1). [33] Греки
придерживались той мысли, что даже боги не вольны распоряжаться
временем собственной жизни - но также подвластны судьбе. Мифы передают,
что мойры неоднократно открывали Зевсу его судьбу – быть
свергнутым собственным сыном. И всемогущий бог принужден был
предпринимать экстраординарные усилия, дабы избегнуть своей участи.
Предначертаниям судьбы был подвластен и отец Зевса – Кронос
(Хронос). G Читайте также:Письмо Аристея как историческое свидетельство. ПРОЕКТ ДЕМЕТРИУС. |
|
|
|